«Высшая ступень человеческого развития»: особенности славянофильской апологетики
Дата создания:
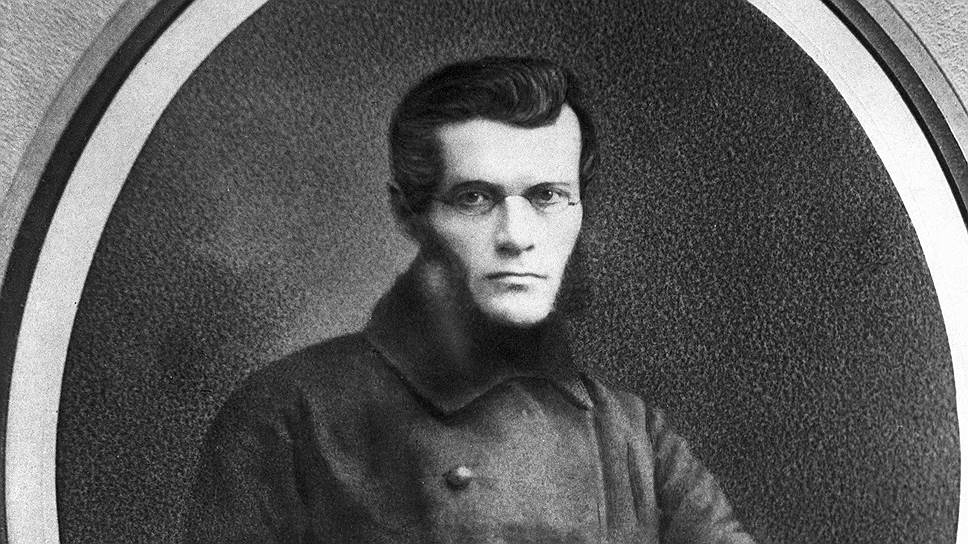
Иван Киреевский
Одной из
квазихристианских идей славянофильства, проходящей мимо сознания большинства
исследователей, является эволюционистская трактовка исторического генезиса
Христианства, скрытая за общеромантической борьбой с атеизмом и буржуазным
эгоцентризмом, с либерализмом западников, в частности. Вместе с традиционной
апологетикой Христианства романтизм может неутомимо опровергать скептицизм и
деизм просветителей, различные «мифологические» и позитивистско-дарвинистские
теории происхождения Христианства (вроде выведения учения Иоанна Богослова о
Боге-Слове из учения о Логосе Филона Александрийского и т.п.). Но собственное
учение романтизма, которое при этом транслируется, это антропотеическая
космогония, идея поступательного развития общечеловеческого духа, его
последовательного возрастания в различных культурах и религиях, единый
эволюционный процесс мировой истории, органичным завершением которого
оказывается Христианство, что, по сути, является умеренной формой того же
самого либерализма, скрытым за идеализмом отрицанием Православия, религиозным
вольнодумством, черпающим основные свои идеи из того же германо-романского
источника (гуманизма модерна), что и западники.
«Общечеловеческим гением считается такой человек, который силою своего
духа успевает вырваться из пут национальности и вывести себя и своих
современников <…> в сферу общечеловеческого. Цивилизационный процесс
развития народов заключается именно в постепенном отрешении от случайности и
ограниченности национального, для вступления в область существенности и
всеобщности – общечеловеческого. <…> Такое учение развилось у нас
в тридцатых и в сороковых годах <…> Главными его представителями и
поборниками были Белинский и Грановский» (Данилевский Н.).1
И эту же
«всечеловечность» будет исступленно проповедовать Достоевский в «Пушкинской
речи» как итог всех своих религиозно-философских исканий и построений, где
буржуазному «обезбоживанию» человека противопоставляется его романтическое
обожествление. И эту же «постепенность отрешения от случайного» (в движении к
идеальному) исповедовали старшие славянофилы.
Ортодоксальная парадигма
всемирной истории и места Христианства в ней представлена в концепции «двух
градов» блж. Августина («О граде Божием») с ее принципом непримиримого
антагонизма Христианства и язычества, Церкви и мира, в резко очерченной границе
между ними, в модусе евангельского «свет во тьме светит, и тьма не объяла его»
(Ин 1:5), где контраст «света» Благой Вести и «тьмы» язычества максимален. В русской традиции этот же самый
концептуальный историософский антагонизм демонстрирует «Слово о Законе и
Благодати» свт. Илариона Киевского: «Благословен Господь Бог Израилев, Бог
христианский, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, что не попустил
до конца твари Своей идольским мраком одержимой быть и в бесовском служении
погибнуть. Но оправдал прежде племя Авраамово скрижалями и Законом, после же
через Сына Своего все народы спас, Евангелием и Крещением вводя их в обновление
пакибытия, в Жизнь Вечную».2
Евангелие и Крещение – единственные врата в вечную жизнь. Ни о какой
«постепенности» перехода от «бесовского (идольского) служения» язычества к
служению истинному Богу и спасению в христианской Церкви здесь и речи быть не
может; одно начинается там, где заканчивается другое; «враждующим с Богом
иноверным» противопоставлены православные христиане как «сыны Его», «чуждым»
Богу – «наследники Царства Небесного». На размывании этой принципиальной для
Священного Писания и Предания границы между миром и Церковью и построена
квазихристианская апологетика славянофилов. Если в
первом случае «прежде Закон [Ветхий Завет], потом Благодать; прежде
тень, потом Истина», то во втором – «тенью Истины» и альтернативным «Законом»
выступают «передовые» формы как раз языческой «тьмы», тем самым, превращающейся
в предрассветные сумерки и первые лучи восходящего Солнца. Воспринятая у ранних
апологетов христианства (Климента Александрийского, в первую очередь) и
неогностиков немецкого идеализма (Шеллинга и Гегеля), эта космогоническая
концепция истории становится нормой и славянофильской историософии, и
отличительной чертой их собственной апологетики.
Киреевский
Рассмотрим эту «медвежья услугу»
романтизма Христианству на примере программной статьи И. Киреевского «О
необходимости и возможности новых начал для философии» (1856 г.), где
антропогонические штампы немецкого классического идеализма («возможность
необходимого» и диалектическая эволюция «начал») читаются уже в самом названии
работы (ср. у Гегеля в «Философии религии»:
«природная душа является
не такой, какой она должна быть; она должна быть свободным духом,
но духом она становится лишь посредством снятия природной воли,
вожделения. Это снятие и подчинение себя нравственному началу и приучение себя
к тому, чтобы нравственное, духовное стало второй природой индивидуума, есть
вообще дело воспитания и образования. Такое преобразование человека должно быть
осознано с этой точки зрения, ибо это точка зрения осознающей себя свободы, так
что такое превращение признается как необходимое»).3
Эта демиургическая концепция «преобразования природы
человека» усилиями его воли, поступательного «самообразования»,
«самовоспитания» и самоспасения человека, и является основным содержанием
работы Киреевского.
«…философское развитие в Европе достигло той
степени зрелости, когда появление новой системы уже не может так сильно и так
видимо волновать умы, как прежде оно волновало их, поражая противоположностью
новых выводов с прежними понятиями. То направление к рациональному
самомышлению, которое началось на Западе около времен реформации, и которого
первыми представителями в философии были Бэкон и Декарт, постоянно возрастая и
распространяясь в продолжение трех с половиною столетий, то раздробляясь на
множество отдельных систем, то совокупляясь в их крупные итоги, и переходя
таким образом все ступени своего возможного восхождения, достигло, наконец,
последнего всевмещающего вывода, далее которого ум Европейского человека уже не
может стремиться, не изменив совершенно своего основного направления» (III, 223).4
Такой момент в гегельянской диалектике становления
называется «самоотрицанием», или «снятием». Следующим необходимым «новым
началом» для дальнейшего развития мысли в Европе и должно было, по Киреевскому,
стать восточное Христианство («русское православие») как высшая форма
«нравственно-духовной природы». Однако речь не идет о том, что это «начало»
принципиально «другое», что-то сверхъестественное (хотя оно и обозначается
«новой (другой) природой»). Вернее – принципы диалектического «превращения»,
«постоянного возрастания», «достижения степеней зрелости» одного «начала
образованности» и возможности его внутреннего обновления и становления другим,
предполагают единую сущность этих формальных противоположностей, или их
онтологическое «диалектическое единство», возможность и необходимость
«перехода» одной «природы» в другую, «трансцендентного» – в «имманентное», и
обратно.
«Целесообразная деятельность есть
отличительная черта не только духа, но и жизни вообще – это
деятельность идеи, ибо это такое порождение, которое уже не есть переход
в другое, даже если оно определено как другое, или, как в случае
необходимости, в себе то же самое, но по образу и друг для друга –
нечто другое. В цели содержание, как первое, независимо от формы перехода, от
изменения, так что оно сохраняется в этом изменении. Росток определенного
цветка, прорастающий под влиянием разнообразных условий, есть
порождение только его собственного развития и лишь простая форма
перехода от субъективности в объективность; в результате открывается
образ, преформированный в зародыше» (Гегель Г.).5
Эта духовная органика и означает неоплатоническое
стирание границ между естественным и сверхъестественным, между человеческим
духом и Божественным, между философией и Откровением, между язычеством и
Христианством
(«почитание многих божественных сущностей,
которые, поскольку их много, являются ограниченными, приводит к тому, что
совершается переход ко всеобщности божественной силы» (Гегель Г.)).6
Аналогично, как органический процесс, как ряд
диалектических «самоотрицаний» и «переходов», линейно и непрерывно, без
«пропастей», которые общечеловеческому разуму нельзя было перепрыгнуть,
Киреевским мыслится корреляция последней «степени зрелости» античной философии
и этого же «нового начала», или Самой Истины, явленной в Боговоплощении.
«…с конечным развитием Греческой образованности
окончилось, можно сказать, владычество языческих верований над просвещением
человечества; не потому, чтобы не оставалось еще верующих язычников, но потому,
что передовая мысль образованности была уже вне языческой веры».7
«Передовая» языческая философия духовно переросла
язычество и «сняла» его; вышла за его пределы и одной ногой встала на границе
Христианства.
«…когда человек отвергает всякий
авторитет, кроме своего отвлеченного мышления, то может ли он идти далее того
воззрения, где все бытие мира является ему прозрачной диалектикой его
собственного разума, а его разум самосознанием всемирного бытия? Очевидно, что
здесь конечная цель, которую только может предположить себе отвлеченный разум,
отделенный от других познавательных сил, — цель, к которой он шел в продолжение
веков, до которой он достиг в наше время, и выше которой ему искать уже нечего»
(Киреевский И.).8
Грех западного философского рационализма
(как и негативные аспекты языческой философии), с точки зрения романтики
всеединства, состоял в его «отделении от других» начал, потому что они априори
составляют единое целое. Поэтому их воссоединение не только дает возможность
«идти дальше» впавшему в грех «началу», но означает что оно в самом своем грехе
«шло вперед», «восходило» к высшей (максимально возможной для этого этапа
своего развития) степени. Следовательно, грех – это уже не преступление, но
«болезнь роста», «переходный этап». Именно эта диалектика неоплатонического
органицизма лежит в основе антиюридизма богословской школы, основоположниками
которой явились старшие славянофилы.
«С этой отрицательной стороны,
Греческая философия является в жизни человечества, как полезная воспитательница
ума, освободившая его от ложных учений язычества и своим разумным руководством
приведшая его в то безразличное состояние, в котором он сделался способным к
принятию высшей истины. Философия приготовила поле для Христианского посева».9
Способность восприятия божественных истин
Христианства обретается не Божественной благодатью, но внутренними ресурсами
духовной жизни человечества. Соответственно, как стирается граница между
естественным и сверхъестественным, так в этом космогонии мирового духа она
стирается и в отношении противоестественного.
«Человеческий разум, получив одинаковые
права с Божественным Откровением, сначала служит основанием религии, а потом
заменяет ее собою».10
Это как раз то, за что романтизм считается
заштатным апостолом Христианства, его пафосная борьба с «бездуховностью», его
критика либерального эгоизма и т.д. Но парадокс в том, что позиция романтизма
при этом принципиально не отличается от этого общегуманистического
человекобожия, потому что, как мы видим, «человеческий (всецелый) разум» здесь
тоже «получает одинаковые права с Божественным», «заменяет христианство
собою».
«Ибо всякая философия, в полноте своего
развития, имеет двойной результат, или, правильнее, две стороны последнего
результата: одна — общий итог сознания, другая — господствующее требование, из
этого итога возникающее», а именно, «внутренний дух», «живая сила»,
которые «принадлежат жизни и просвещению всего человечества».11
Получается, философия – это естественная
форма Откровения (сверхъестественного): она выполняет те же демиургические
функции (просвещение человечества) и имеет те же божественные характеристики
(наполняет жизнь смыслом, оживотворяет дух, дает внутреннюю силу), отличаясь от
Христианства только степенью всех этих благ и сил.
Как и в системе Гегеля, изначальное
мифическое «природное» единство человеческого духа с самим собой и с целым
обретается у Киреевского в мифическом историческом прошлом человечества, то
есть после библейского грехопадения, которое тем самым неприметно (в мягкой
форме идеализма) отрицается: сначала человек живет в единстве с
«действительностью» (возрожденный языческий миф о том, что «вначале был насажен
золотой век»), затем наступает пора «дальнейшего развития» путем обособления
как гностического «грехопадения», отчуждения от «целого». Это «грехопадение» со
временем дает прирост «самосознания» высшего «начала», которое, по сути,
совпадает с первоначальным состоянием единства «всех» вновь собранных в своей
«цельности самосознаний». Получается, полнота внутренних сил человеческого
духа, цельность разума, единство рода (русского народа) и вида (человечества) –
это и есть «сверхъестественное», или «божественное» этой системы.
«Чем свободнее, чем искреннее верующий разум в своих
естественных движениях, тем полнее и правильнее стремится он к Божественной
истине»,12
потому что далеко ходить не
приходится: «божественное» (истина), как потенция роста, как зерно
сверхъестественного, коренится в недрах самого «естественного» (человеческого
разума).
«Действительность в глазах Аристотеля», этого Гегеля античности, «была полным воплощением
высшей разумности».13
И для самого Киреевского
действительность тоже «была воплощением высшей разумности», только не полным,
но на три четверти (с перспективой скорого окончательного восполнения ущерба).
Вот и вся разница. Аристотелизм и гегельянство – это неполное Христианство.
Поэтому
«первое условие для возвышения разума [до согласия с верою] заключается
в том, чтобы он стремился собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные
силы», «чтобы постоянно искал в глубине души того внутреннего корня
разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума».14
Мифическая «цельность
человеческого разума (духа)» выполняет у Киреевского функцию Божественной
благодати в ортодоксии, что делает его философию логическим продолжением
немецкого классического гностицизма.
При этом, повторим, в заблуждение вводит
одновременная полемика славянофильского романтизма с западным (философским и
схоластическим) рационализмом и формальная апологетика Православия.
«Вера не слепое понятие», не такое
«состояние разума», в котором «нет ничего особенного, чего бы и без
Божественного Откровения нельзя было найти в сознании естественного разума».
Но суть в том, что этот же обличаемый в
западном рационализме гностический антропотеизм тут же исповедуется
славянофильством практически в том же самом виде:
«Для нее [православной веры как высшей
разумности] развитие разума естественного служит только ступенями, и, превышая
обыкновенное состояние ума, она тем самым вразумляет его, что он отклонился от
своей первоестественной цельности и этим вразумлением побуждает к возвращению
на степень высшей деятельности».15
Это и означает, что в христианской вере,
по Киреевскому, нет ничего сверхъестественного, или того, чего нельзя было бы
найти в естественном разуме: одно переходит в другое путем восхождение или
нисхождения по «ступеням (нравственного) развития». Ср. у Гегеля:
«Это завершенная религия,
религия, которая есть бытие духа для себя самого, религия, сама для себя
ставшая объективной, христианская религия. В ней неразрывны всеобщее и
отдельный дух, дух бесконечный и конечный; их абсолютное тождество есть эта
религия и ее содержание».16
В следующем отрывке, построенном по
принципу «диалектического единства противоположностей», хорошо видна установка
славянофильской мысли на синтез Христианства и языческой философии:
«Нравственное ничтожество было общим
клеймом всех и каждого. <…> Таково было влияние философии древней
<…>На земле человеку уже не оставалось спасения. Только Сам Бог
мог спасти его. <…> Однако же Христианство, изменив дух древнего
мира и воскресив в человеке погибшее достоинство его природы, не безусловно
отвергло древнюю философию. Ибо вред и ложь философии заключались не в развитии
ума, ею сообщаемом, но в ее последних выводах, которые зависели от того, что
она почитала себя высшею и единственною истиной, и уничтожались сами собою, как
скоро ум признавал другую истину выше ее. Тогда философия становилась на
подчиненную степень, являлась истиною относительной и служила средством к
утверждению высшего начала в сфере другой образованности».17
«Ложь» и «нравственное ничтожество» греха
становятся «относительной истиной» и «средством к утверждению высшего начала»,
тем самым, сам «дух древнего мира» становится естественной предтечей
Христианства. А раз так, то его декларированная «подчиненная степень» в общем
синтезе романтической религии – это часть этой лжи. То, что эта «служанка
богословия» и не думает отказываться от своих титанических притязаний на
«высшую истину», тут же и демонстрирует нам славянофильство своею подмену истин
Христианства (требующего от ветхого человека именно полного отвержения лжи и
греха, а не их лукавого «творческого» изменения) лестными человеку мифами
эволюционизма.
«…чем яснее обозначены и чем тверже
стоят границы Божественного Откровения, тем сильнее потребность верующего
мышления — согласить понятие разума с учением веры».18
На деле же, как мы видим, происходит
«согласие» не просто понятий разума с догматами веры, но симбиоз истин
вероучения с философскими лжеучениями и с ересью гегельянской теогонии, в
частности.
Наконец, это осознанное смешение
христианского вероучения с классическими лжеучения у Киреевского получает
прямое выражение:
«Христианство не уничтожало языческой
философии, но, принимая ее, преобразовывало согласно своему высшему любомудрию.
Величайшие светила Церкви: Иустин, Климент, Ориген, во сколько он был
православен, Афанасий, Василий, Григорий и большая часть из великих Святых
Отцов, на которых, так сказать, утверждалось Христианское учение среди
языческой образованности, были не только глубоко знакомы с древнею философией,
но еще пользовались ею для разумного построения того первого Христианского
любомудрия, которое все современное развитие наук и разума связало в одно
всеобъемлющее созерцание веры».19
Здесь начинается та реабилитация и
«воцерковление» оригенизма, под знаком которого пройдет все «неопатристическое
возрождение (синтез)» следующего века.
Идея мистического единства человечества и
императив восстановления этого единства порождают ложное мнение Киреевского о
том, что раскол с Церковью западного мира становится ущербом и для самой
Церкви,
«ибо судьба всего человечества
находится в живой и сочувственной взаимности, не всегда заметной, но тем не
менее действительной. Отпадение Рима лишило Запад чистоты Христианского учения
и в то же время остановило развитие общественной образованности на Востоке. Что
должно было совершаться совокупными усилиями Востока и Запада, то уже сделалось
не под силу одному Востоку, который таким образом был обречен только на
сохранение Божественной истины в ее чистоте и святости, не имея возможности
воплотить ее во внешней образованности народов».20
Здесь отчетливо звучат уже экуменические
нотки, замешанные все на том же оригеническом «синтезе» православных,
гностических и неоплатонических идей, или на все на той же пневматологической
космогонии:
«ибо нет сомнения, что все действия и
стремления частных людей и народов подчиняются невидимому, едва слышному, часто
совсем незаметному течению общего нравственного порядка вещей, увлекающему за
собой всякую общую и частную деятельность».21
В свою очередь, «нравственные течения»
отдельных народов, цивилизаций и «иноучений христианских» (здесь же
вводимый неологизм, прототип «инославия») составляют мировой мейнстрим «стройного
возрастания», единого «течения нравственного порядка вещей» как
постепенно воплощающегося в истории «божественного начала».
Хомяков
Ту же самую «феноменологию духа» (становление
«всецелого разума») находим мы в фундаментальном историософском труде Хомякова
«Семирамида (Исследование истины исторических идей)», или (другое
название) «Записки о всемирной истории»
(1837-1852). Диалектическая борьба начал «иранства» («арийства») и «кушитства»,
определяющая содержание исторического процесса у Хомякова (по аналогии с
оппозицией «каинитов» и «сефитов» как выразителей «природной» и «божественной»
воли у Шлегеля; или «иранского принципа света» и «египетской тайны» у Гегеля;
или антиномии «разума» и «рассудка» у Шеллинга), приводит к тому, что само
Христианство, появляясь в истории, оказывается модусом «иранства» как
положительного «начала», предельно «развитым» «арийством»
(«светлый Магизм Зендавесты, в котором слышен
какой-то отзвук Библии и какое-то предчувствие Нового Завета»).22
Поиск признаков «дохристианского существования» Христианства,
его способности «сливаться с язычеством» (Х.,V,314-315) в высших проявлениях
последнего – вот основная идея этого сочинения и его пафоса. Особенность
концепции Хомякова, пожалуй, лишь в том, что он поначалу, кажется, больше
склонялся к гностическому принципу антиномии (дуализма) основных «начал», чем
их неоплатонического синтеза, в отличие от Киреевского. Сама идея проявления
идеального, воплощения трансцендентного, оценивается как принцип кушитства, то
есть негативно.
«Жизнь нравственная допускалась или не допускалась в эманациях, смотря
по первоначальному направлению народной мысли. Но слово творение, будучи
совершенно чуждо видимому ходу вещественного мира, заключает в себе законы,
совершенно отличные от законов вещества, а слово эманация принадлежит кругу
понятий чисто вещественных и невольно влечет за собою целый ряд законов
основанных на коренной идее необходимости» (Х.,V,259)
Положительное проявление сверхъестественного здесь ограничивается областью
имманентного; эманация идеального в реальное является эксклюзивным процессом,
«совершенно чуждым» для непосвященных, представителей другой «стихии», но сам
принцип один и тот же. Связь человека с «божественным началом» у Хомякова и
Киреевского (у этих Шеллинга и Гегеля славянофильства) осуществляется через
волю человека, способного эта связь устанавливать собственными усилиями,
реализацией внутренних потенций, лишь в одном случае это трактуется
оптимистически (или экзотерически), а в другом – более «пессимистически» (или
эзотерически, как прерогатива избранных:
«когда Веды были законом для лучших душ, кто
скажет, перед какими чудовищами поклонялся народ?» (Х.,V,154);
«иранство… всегда восстановлялось частными усилиями великих умов»
(Х.,V,329).
Но суть одна и та же:
«Религия есть крайний предел всего мышления человеческого: явно или
тайно, разумно или инстинктивно, она в себе всегда заключает полный и окончательный
вывод из его духовной жизни. От этого при всех случайностях мифа и легенды,
выдумки и предания она всегда отражает все сцепление его умственного развития и
облекает в таинственные образы строгие законы его бессознательной диалектики.
Те самые явления, которые встретились нам при изучении кушитского вещественного
служения, должны повториться, и действительно повторяются во всех философиях,
исторически или логически возникших из материализма или из воззрения на
неизменную последовательность видимой природы или познающего ума» (Х.,V,225).
Соответственно, и Христианство оказывается «крайним пределом мышления
человеческого» (вернее – человеческой воли) только его другого – «иранского» –
начала. Внутренняя сродность Духа Христианства с «народным духом» этой
человеческой «стихии» обуславливает легкость принятии Христианства одними
народами и трудность – другими, а также особенности, которое Христианство
принимает у разных народов
(«эта истина доказана легким введением христианства в Россию и кровавою борьбою
Поморья славянского против германских проповедников –меченосцев» (Х.,V,192)).
Проекция этой антропотеической космогонии в богословие – ключ к
экклезиологии Хомякова:
«Церковь и ее члены знают внутренним знанием веры единство и
неизменность своего Духа, который есть Дух Божий. Внешние же и непризванные
видят и знают изменение внешнего обряда внешним знанием, не постигающим
внутреннего, как и самая неизменность Божия кажется им изменяемою в изменениях
Его творений».23
Несмотря на кажущуюся ортодоксальность, эта дефиниция Хомякова восходит
отнюдь не к св. отцам, но к все тому же Гегелю (формально отрицаемому здесь
путем «дальнейшего развития»), и означает, что Бог в Церкви «совершенно
открыт».
«Быть богом – это значит отличать себя от
самого себя, быть своим собственным предметом, но в этом отличении быть
идентичным с самим собой, то есть быть духом. Это
понятие теперь реализовано, сознание знает это содержание и знает себя включенным
в это содержание: оно само является моментом в понятии, которое есть
процесс бога. Конечное сознание знает бога лишь постольку, поскольку бог
знает в нем себя; таким образом, бог есть дух, и именно дух своей общины, то
есть тех, кто его почитает. Это – совершенная религия, понятие, ставшее для
себя объективным. Здесь открылось, что такое бог; он больше не является
чем-то потусторонним, неизвестным, ибо он возвестил людям, что он есть, и не
просто во внешней истории, а в сознании. Итак, здесь мы имеем религию явления
бога, поскольку бог знает себя в конечном духе. Бог совершенно
открыт» (Гегель Г.).24
Эта «совершенная открытость» Бога в Церкви, с одной стороны, а с другой –
неизбежное смешение двух основных стихий человечества в процессе истории,
позволяют Хомякову преодолеть свой изначальный дуализм и прийти к тому же
оптимистическому всеединству:
«Придет время, когда человечество, мужая разумом и образованностью,
признает одни начала высшей истины; но теперь мы видим, что формы религии до
некоторой степени соответствуют разделению племен. Христианство озаряет только
народы индо–германские и весьма слабо проникло в отрасль семитическую» (Х.,V,19),
потому что
«первоначальная вера почти целого мира была чистым поклонением Духу,
мало–помалу исказившимся от разврата кушитской вещественности и перешедшим во
все виды многобожия человекообразного, звездного или стихийного. Введение
христианства было эпохою крутого перелома и возврата к забытому учению»
(Х.,V,344).
Христианство «вводится», как «хорошо забытое старое» природного
человечества, где «крутизна перелома» нивелируется в обратной перспективе
постепенного «искажения».
То же (что и к гегельянству) диалектическое отношение
у Хомякова к гностицизму и неоплатонизму: с одной стороны, «система эманаций» как «средняя» между
основной иранской и кушитской религиозной идеей оценивается отрицательно
(«что-то неопределенное и бесхарактерное,
принимающее всякий смысл по желанию толкователя, не имеющее никакого присущего
и ясного значения, кроме значения логической последовательности, т.е.
необходимого и постепенного развития»),
с другой – принцип «постепенности развития» с ее
«неопределенностью» и «произвольностью смысла» тут же демонстрируется самим
Хомяковым:
«до появления в мире нового великого учения, перед
которым исчезли или исчезают все древние верования, эманации были последнею
степенью умственного развития. <…> Буддаизм, брахманство, шиваизм
<…> гностики в своих зонах, неоплатоники в своем философическом умозрении
о самобытных идеях, все сливались в общей системе истечения» (Х.,V,253).
«В ней [эманации] было торжество начала
кушитского, в форме несколько просвещенной. Допущение нравственного начала при
эманационной системе было бессмыслицею, ибо зло истекало из общего источника
бытия, так же как и добро, следовательно, одинаково с добром, первобытно
присутствовало в этом источнике» (Х.,V,253).
Такой же «бессмыслицей», «несколько просвещенной»,
оказывается и собственная система Хомякова, в которой лжерелигии являются
этапом становления «совершенной религии» (Гегель); где лжеучения суть
предпосылки «появления в мире нового великого учения» (Хомяков).
Забегая вперед, можно сказать, что некоторые отличия романтической
антропогонии у других авторов этого направления также не являются существенными,
будучи детерминированными общим принципом, сформулированным Гегелем:
«религии созданы людьми; следовательно,
в них должен присутствовать разум и при всей кажущейся случайности
[суевериях, заблуждениях, обманах, искажениях] должна
присутствовать высшая необходимость. Мы должны воздать им эту
справедливость, ибо человеческое, разумное в них принадлежит
и нам, пусть даже в нашем более высоком сознании оно
присутствует только как момент. Воспринять историю религий таким
образом означает: примириться и с теми особенностями этих религий,
которые вызывают в нас ужас, отвращение и неприязнь, и оправдать их. <…> Религии в их последовательной смене
детерминированы понятием, определены не внешним образом, а природой духа,
который проник в мир, для того чтобы прийти к сознанию самого себя» (Гегель
Г.).25
Подобную концепцию истории религий и места Христианства в ней исповедует и
Хомяков
(«религию можно понять единственно по взгляду
на всю жизнь народа и на полное его историческое развитие» (Х.,V,154)).
С точки зрения строгой Ортодоксии, все это означает «примирение» с грехом,
скрытое «оправдание» его под овечьей шкурой идеализма, «правое крыло» нигилизма
в отношении христианской Традиции с ее императивом отречения от мира. «Какое
согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?
Какая совместность храма Божия с идолами?» (2 Кор 6:15-16).
Достоевский
Эстафету дальнейшего
духовно-нравственного «развития человечества» от славянофилов принимают
почвенники.
«Величайшее из величайших назначений, уже созданных Русскими в своем
будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, — не
России только, не общеславянству только, но всечеловечеству. Подумайте и вы
согласитесь, что Славянофилы признавали то же самое, <…> что
всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского».26
У Достоевского
общеромантическая идея антропотеической космогонии в апологии Христианства
выражена еще прямолинейней, чем у Хомякова и Киреевского:
«в Евангелии сказано Христом окончательное слово развития человеческого».27
Несмотря на, казалось
бы, проповедь Христианства, это положение, будучи принятым, не оставляет в
Христианстве камня на камне. Если благая весть Христа и Сам Он – это результат
предыдущего «человеческого развития» или даже просто высшая степень уже
явленных в человеческой истории добродетелей, нравственных достижений, высоких
философских и религиозных учений, то православная вера оказывается разрушенной
по всем направлениям. Главное же – при такой вводной оказывается невозможным
подлинное покаяние, потому что грешник в таком случае спасается не Кровью
Христовой, не получает спасение даром по милости Божией, вводится в Царствие
Божие Церкви не отречением от прежней жизни по «похотям мира сего» (то есть по
воле «князя мира сего»), но въезжает туда на белом коне своих творческих побед
и нравственных заслуг. Каждый великий человек вносит свой вклад в «святое дело»
«развития человечества»: кто-то значительный, равноапостольный
(«Гомер
(баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный Богом и к нам
посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гёте. Ведь в Илиаде Гомер
дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в той
же силе, как Христос новому»),28
кто-то преподобный
(«явились люди, прямо возгласившие, что дело остановилось напрасно и
неправильно, что ничего не достигнуто политической сменой победителей, что дело
надобно продолжать, что обновление человечества должно быть радикальное,
социальное. <…> Жорж Занд была, может быть, одною из самых полных
исповедниц Христовых, сама не зная о том. Она основывала свой социализм, свои
убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде
человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной
необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до
бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою»),29
кто-то незаметный. Но
целое («всечеловечество») непрерывно прогрессирует, поступательно
движется к Богу, «само не зная о том». Если же случаются «остановки в
пустыни», то свыше посылается очередной «великий развиватель
человечества»30 – и караван продолжает
свой путь. В прошлом был достигнут такой уровень развития, что возможным стало
явление Идеала, эталонного Человека, произнесшего «окончательное слово
развития человеческого»… В будущем этот эволюционный процесс органически
завершится тем, что «будут все Христы»…31 Что это означает? – Это
означает, что дьявол не обманул человека, когда сказал, «станете как боги, знающие
добро и зло», потому что именно тогда и началось «развитие человечества»,
постепенное накопление знаний о мире и о себе, опытное познание нравственных
законов и добывание духовных максим в творческом процессе проб и ошибок.
Вкушение запретного плода «сделало человека ответственным» и утвердило его
свободу. Дьявол не обманул. А вот Бог, выходит, обманул¸ когда сказал «смертию
умрете» в тот самый миг, когда вкусите от запретного древа, потому что не
только не умерли, но встали на путь органичного духовного взросления,
свободного развития в себе добродетелей... Так Христианство превращается в
неоплатонический извод гностицизма с его отрицанием последствий грехопадения
для человеческого духа.
«Другая
сторона [грехопадения] <...> выражена в словах Бога: "Смотри! Адам
стал, как один из нас". Следовательно, это не лживое заверение змия, Бог
подтверждает истину его слов» (Гегель Г.).32
Наиболее развернуто концепция
Христианства как «последнего слова развития человеческого» изложена
Достоевским в статье «Социализм и христианство».
«Когда
человек живет массами (в первобытных патриархальных общинах, о которых остались
предания) — то человек живет непосредственно. Затем наступает время переходное,
то есть дальнейшее развитие, то есть цивилизация. (Цивилизация есть время
переходное.) В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого
никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание непосредственных
идей и законов (авторитетных, патриархальных, законов масс). Человек как
личность всегда в этом состоянии своего общегенетического роста становился во
враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и вcex. Терял
поэтому всегда веру и в бога. (Тем кончались всякие цивилизации). <…> Если
б не указано было человеку в этом его состоянии цели — мне кажется, он бы с ума
сошел всем человечеством. Указан Христос. <…> ОН – идеал человечества
<…> В чем закон этого идеала? Возвращение в непосредственность, в массу,
но свободное <…> Человек возвращается в массу, в непосредственную жизнь,
след<овательно>, в естественное состояние, но как? Не авторитетно, а,
напротив, в высшей степени самовольно и сознательно. Ясно, что это высшее
самоволие есть в то же время высшее отречение от своей воли. В том моя воля,
чтоб не иметь воли, ибо идеал прекрасен. В чем идеал? Достигнуть полного
могущества сознания и развития, вполне сознать свое я — и отдать это всё
самовольно для всех. <…> Патриархальность было состояние первобытное.
Цивилизация — среднее, переходное [социализм есть последнее, крайнее до идеала
развитие личности, а не норма, то есть сознательно развитые единицы личностей,
в высшей степени, соединенные тоже в высшей степени во имя красоты идеала].
Христианство — третья и последняя степень человека, но тут кончается развитие,
достигается идеал».33
Здесь всё тоже, в основном, по Гегелю:
«Единое, которое становится предметом
самосознания на этой ступени, представляет собой конкретно всеобъемлющее
единство, это всеобщая природа вообще, или некая целостность богов, –
содержание чувственно-духовного мира объединено здесь вещественным образом.
Поскольку самосознание не развилось до бесконечной субъективности, которая
в качестве духа была бы конкретной внутри себя, то созерцание
субстанциального единства на этой ступени является чем-то уже наличным и
черпается из более древних религий. Ибо более древние, первоначальные
религии – это определенные природные религии, где основу составляет
своеобразный спинозизм, непосредственное единство духовного и природного.
Далее, древняя религия, хотя она и является локально
определенной и ограниченной в своем изображении и способе
постижения, пока она еще не развита в самой себе, предстает сравнительно неопределенной
и всеобщей».34
Теогония Гегеля как эманация «духовного» и сублимация «природного», в свою
очередь, восходит к классикам неоплатонической и гностической мысли. Так, в
«Лекциях по истории философии» Гегель излагает доктрину гностика Василида как
одного из своих предтеч.
«Одним из самых выдающихся гностиков является Василид. У него также
первым является неизреченный бог — энсоф каббалы; он, как у Филона, есть сущее,
сущий, безыменный, т.е. непосредственное. Вторым является дух первородный,
называемый также мудрость, приводящее в действие, а в более частном определении
— справедливость. Затем следуют определенные далее начала, которые Василид
называет архонтами, главами царств духов. Основным в этом движении является
опять-таки возвращение, процесс исправления души, экономия очищения; душа
должна снова возвратиться из материи к мудрости, к миру. Первосущность носит в
себе сокрыто, замкнуто все совершенства, но носит их лишь в возможности; только
дух, первородный, есть первое откровение сокровенного. И все сотворенные
существа также могут сделаться причастными истинной справедливости и
порождаемому ею душевному миру лишь посредством связи с богом».35
В Пушкинской речи Достоевского гуманистическая идеология всемирного
прогресса (восстановления утраченного единства, реализация идеального
потенциала природного человека, саморазвивающегося «организма» человечества)
получает свое завершение в категориях
«всемирной отзывчивости», «совершенного перевоплощения своего
духа в дух чужих народов», «всечеловечности», «всеобщего
общечеловеческого воссоединения со всеми племенами великого арийского рода»,
«всечеловечной и всесоединяющей русской души», «великой, общей гармонии,
братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону»,36
лишь по недоразумению воспринимаемых за апологию Православия. В эволюции «всечеловека»
Пушкина у Достоевского отражается аналогичный процесс развития «русского
народа», «великого арийского племени» и «всечеловечества»,
где «периоды не имеют таких твердых границ», поэтому «некоторые»
святые добродетели «даже третьего периода могли, например, явиться в самом
начале деятельности», потому что земное божество Всечеловек
«был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившим в
себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность
только будила в нем то, что было уже заключено во глубине души его. Но организм
этот развивался, и периоды этого развития действительно можно обозначить и
отметить, в каждом из них, его особый характер и постепенность вырождения
одного периода из другого».37
Данилевский
Итак, возрожденный немецким религиозно-философским романтизмом языческий
миф о распавшемся сакральном единстве, о мире как «эманации» Единого и
«диалектическом процессе» развития как «восстановления единства» (разума и
рассудка, индивида и рода, рода и вида, Бога и мира) определяет общее
славянофильское воззрение на место Христианства в человеческой истории.
В свой черед эта космогоническая историософская парадигма своеобразно
преломляется в книге «Россия и Европа» Н. Данилевского. Заряд идей Фурье и
Ламенне, беллетристики Санд и Гюго, совместно полученный Данилевским и
Достоевским в кружке Петрашевского, был настолько сильным и определяющим, что
даже у разделенных известными репрессивными мерами и в течение двадцати лет не
имевших связи друг с другом у них сложились довольно схожие авторские концепции
(«Она [статья Данилевского] до того совпала с моими собственными
выводами и убеждениями, что я даже изумляюсь, на иных страницах, сходству
выводов» (Достоевский Ф.)).38
«Итак, при нашей уступке, что Россия если не прирожденная, то
усыновленная Европа, мы приходим к тому заключению, что она – не только
гигантски лишний, громадный исторический плеоназм, но даже положительное,
весьма трудно преодолимое препятствие к развитию и распространению настоящей
общечеловеческой, т. е. европейской, или германо-романской, цивилизации. Этого
взгляда, собственно, и держится Европа относительно России». «Разве не
пройдены [верует Европа] все переходные фазисы развития общечеловеческой жизни
и поток всемирно-исторического прогресса, столько раз скрывавшийся в подземные
пропасти и низвергавшийся водопадами, не вступил, наконец, в правильное русло,
которым остается ему течь до скончания веков, напояя все народы и поколения,
увлажняя и оплодотворяя все страны земли?»39
Возражение Данилевского западникам идет по той же линии «европейского
взгляда» (то есть религиозной веры в себя) всех предыдущих «наших ответов
Чемберлену»: мол, нет, развитие России – вот залог дальнейшего развития «настоящей
общечеловечности»; уже не вы, но мы (славянофилы как авангард Святой Руси)
«несем человечеству» «высший фазис», новую вершину
«всемирно-исторического прогресса», «высшую ступень человеческого развития»
(Аксаков И.);40
вам время тлеть, а нам – цвести… Своеобразием космогонического органицизма
Данилевского является лишь плюрализм начал, или стихий. Если у Хомякова их было
только два (иранство и кушитство), то у Данилевского (который ближе в этом
плане к Киреевскому) каждый из десяти (и более) основных культурно-исторических
типов является самостоятельным началом как полноценным воплощением того или
иного аспекта общечеловеческого целого.
«…или положительная деятельность самобытного культурно-исторического типа,
или разрушительная деятельность так называемых бичей Божьих, предающих смерти
дряхлые (томящиеся в агонии) цивилизации, или служение чужим целям в качестве
этнографического материала – вот три роли, которые могут выпасть на долю народа».41
Однако (в отличие уже от Киреевского) прогресс признается только внутри
одного начала: каждый тип стихийно рождается, возрастает, являет на пике
развития полноту того качества всечеловечества, которого он является
выразителем, затем ветшает и умирает, не переходя в другой.
«…проявление самого духа, стремящегося осуществить типы добра, истины и
красоты (которые вполне самостоятельны и не могут же почитаться один развитием
другого), не только изменяются и совершенствуются повозрастно, но еще и
разнообразятся по культурно-историческим типам. Поэтому, собственно говоря,
только внутри одного и того же типа, или, как говорится, цивилизации,- и можно
отличать формы исторического движения».42
На первый взгляд, это придает теории Данилевского некоторую трезвость в
сравнении с гуманистическими утопиями предшественников
(«период цивилизации есть время растраты, растраты полезной,
благотворной, составляющей цель самого собирания, но все-таки растраты; и как бы
ни был богат запас сил, он не может наконец не оскудеть и не истощиться»).43
Однако в основе всего этого лежит все та же «феноменология духа», общий для
романтиков и позитивистов органистический эволюционизм (ср. у Гегеля:
«Росток определенного цветка,
прорастающий под влиянием разнообразных условий, есть порождение
только его собственного развития и лишь простая форма перехода от
субъективности в объективность; в результате открывается образ, преформированный
в зародыше»;44
и у Данилевского:
«ход развития культурно-исторических типов всего
ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период
роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения
относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу»).45
Общая идея антропотеического развития, соответственно,
от этого не меняется:
«Задача человечества состоит не в чем другом, как в
проявлении, в разные времена и разными племенами, всех тех сторон, всех тех
особенностей направления, которые лежат виртуально (в возможности, in potentia)
в идее человечества. <…> Полное осуществление
идеи растения заключается лишь во всем разнообразии проявлений, к которому она
способна, во всех типах и на всех ступенях развития растительного царства
<…> и идея человека может быть постигаема только через соединение всех
моментов его развития, а не реально осуществляема в один определенный момент».46
Поскольку христианские цивилизации в этом плюрализме культурно-исторических
типов оказываются полностью однородными с прочими как «осуществления одной
идеи», или «природы», это делает учение Данилевского очередной формой
титанической антропогонии.
«Таких богато одаренных мыслителей [кто выражает вполне сверх
общечеловеческого и всю свою национальную особенность] правильнее было бы
называть не общечеловеческими, а всечеловеческими гениями, хотя, собственно
говоря, был только один Всечеловек – и Тот был Бог. <…> Итак <…>
чтобы содействовать развитию города, который представляет в нашем уподоблении
всечеловечество, ничего не остается делать, как отстраивать свою улицу, по
собственному плану. <…> Всечеловеческая цивилизация <…> это недостижимый
идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным
развитием всех культурно-исторических типов, своеобразною деятельностью которых
проявляется историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и будущем»).47
Если нет принципиальной разницы между Всечеловеком-Богом и
всечеловеком-гением, то тем более ее нет между христианами и язычниками.
«Почему, когда прежде между греками нарождались Периклы и Эпаминонды,
Эсхилы и Софоклы, Фидии, Платоны и Аристотели и даже еще в более позднее время
– Велисарии, Трибонианы, Анфимии, Иоанны Златоусты, они замещаются потом сплошь
людьми незначительными? Стирается [стареет, начинает упадать, спускаться по
пути своего течения], значит, в обоих случаях сам принцип, производящий и
сочетающий эти элементы как человеческого или вообще животного, так и
общественного тела»).48
Языческие драматурги и политики, художники и философы (и «вообще животные»
организмы) – явления одного ряда с христианами и святителями и по-своему даже
больше их, поскольку жили в период максимального «плодоношения» этого
культурно-исторического типа.
Как и Достоевский, Данилевский пользуется теми же славянофильскими штампами
и движим теми же германо-романскими
«притязаниями на высшую степень культурного развития».49
В «переходе от язычества к христианству», в «процессе внутреннего
перерождения, происходящем в народном сознании <…> и душе отдельного
человека, переходящего из одного нравственного состояния в другое, высшее,
получив к прежнему полное отвращение», «главную пружину, главную
двигательную силу [составляет] внутреннее нравственное сознание, медленно
подготовляющееся в его духовном организме, но всецело охватывающее его, когда
настает время для его внешнего практического обнаружения и осуществления».50
Такая апология Православия является лишь средством национального
самоутверждения как сублимацией духовного превосходства отдельно взятого
представителя высшей «арийской расы», то есть проявлением типичного
гностического самосознания.
«…последнее великое дела эллинского народа – утверждения православной
христианской догматики»).51
Соответственно,
«развить православие» (Достоевский Ф.)52 –
вот задача, достойная природного величия русского народа.
Соловьев
В учении о «богочеловечестве» В.Соловьева
историософская космогония «всечеловечества» получает свое логическое
завершение. Если у Киреевского и Хомякова – отдельные, а у Достоевского и
Данилевского – каждая религия, философия, учение, культура, цивилизация
получали свою меру оправдания как органические произрастания на
общечеловеческой «почве» и признание как естественные предпосылки появления
Христианства, то у Соловьева они получают уже гностическое «освящение»,
окончательную сакрализацию как периоды земной жизни «всечеловека» Софии,
победоносно возвращающейся в божественную Плерому, в Царствие Небесное как к
себе домой.
Антропотеическая «религия» Соловьева
«есть воссоединение человека и мира с безусловным и
всецелым началом. Это начало, как всецелое или всеобъемлющее, ничего не
исключает, а потому истинное воссоединение с ним, истинная религия не может
исключать, или подавлять, или насильственно подчинять себе какой бы то ни было
элемент, какую бы то ни было живую силу в человеке и его мире».53
Помимо прочего, в качестве иллюстрации того, насколько подобные воззрения
были распространены в ту эпоху, здесь еще раз можно вспомнить систему Ш.Фурье
(увлечение которым пережили Достоевский и Данилевский), у которого все страсти
как «живые силы» человека, «правильное» используемые, тоже получали свое
законное место в идеальном целом религиозно переживаемого грядущего (ср. у
Фурье:
«все наши страсти становятся хорошими, если они
развиваются в новом общественном строе, для которого бог их предназначил»;54
и у Соловьева:
«Воссоединение, или религия, состоит в приведении
всех стихий человеческого бытия, всех частных начал и сил человечества в
правильное отношение к безусловному центральному началу, а через него и в нем к
правильному согласному отношению их между собою»).55
При этом в «неправильном» отношении к «безусловному началу» в этой системе
координат пребывает и каноническая Церковь
(««современная религия есть вещь очень жалкая –
собственно говоря, религии как господствующего начала, как центра духовного
тяготения нет совсем»).56
Поэтому «правда социализма» и атеизма заключается в самом их
отрицании исторического Христианства, что расчищает место для «истинной церкви»
будущего, которая соединит Бога и весь мир без остатка.
«Путь к спасению, к осуществлению истинного
равенства, истинной свободы и братства лежит через самоотрицание. Но для
самоотрицания необходимо предварительное самоутверждение: для того, чтобы
отказаться от своей исключительной воли, необходимо сначала иметь ее; для того,
чтобы частные начала и силы свободно воссоединились с безусловным началом, они
должны прежде отделиться от него, должны стоять на своем, стремиться
к исключительному господству и безусловному значению, ибо только реальный опыт,
изведанное противоречие, испытанная коренная несостоятельность этого
самоутверждения может привести к вольному отречению от него и к сознательному и
свободному требованию воссоединения с безусловным началом. Отсюда виден великий
смысл отрицательного западного развития, великое назначение западной
цивилизации»).57
Механизм спасения – все тот же закон диалектического самоотрицания,
внутренне всех и вся воскресающий и побуждающий к «воссоединению с
безусловным началом». Поэтому основной вклад России в созидаемый
богочеловеческий синтез здесь не Русская Церковь, но дух общинности,
коллективизма, монархизма и т.п. как природная воля к всеединству.
«…по закону разделения исторического труда, один и
тот же культурный тип, одни и те же народы не могут осуществить двух мировых
идей, сделать два исторические дела, и если западная цивилизация имела своею
задачей, своим мировым назначением осуществить отрицательный переход от
религиозного прошлого к религиозному будущему, то положить начало самому этому
религиозному будущему суждено другой исторической силе»).58
Определяющий для
доктрины всеединства принцип диалектической космогонии, в свою очередь,
обусловлен априорным гностицизмом ее антропологии:
«Такая [совершенно сознательная и свободная] связь была бы невозможна,
если бы божественное начало было чисто внешним для человека, если бы оно не
коренилось в самой человеческой личности; в таком случае человек мог бы
находиться относительно божественного начала только в невольном, роковом
подчинении. Свободная же внутренняя связь между безусловным божественным
началом и человеческой личностью возможна только потому, что сама эта личность
человеческая имеет безусловное значение. Человеческая личность только потому
может свободно, изнутри соединяться с божественным началом, – что она сама в
известном смысле божественна, или – точнее – причастна Божеству». «…божество
принадлежит человеку и Богу, с тою разницею, что Богу принадлежит оно в вечной
действительности, а человеком только достигается, только получается, в данном
же состоянии есть только возможность, только стремление».59
Из общей
логики романтической антропогонии вытекала идея «догматического развития», непрекращающегося
и даже нарастающего «внутреннего откровения», что делало Священное Предание и
сами догматы Церкви относительными истинами. Если у предшественников все
религии и философии мира были предпосылками Христианства, то Соловьев делает
следующий шаг: развивает уже само историческое Христианство. Получалось, что и
св. апостолы, и святители, и преподобные отцы обладали
лишь
«отдельными сведениями о божественных предметах»,
«так как дух человеческий вообще, а следовательно, и религиозное сознание не есть
что-нибудь законченное, готовое, а нечто возникающее и совершающееся
(совершенствующееся), нечто находящееся в процессе, то и откровение
божественного начала в этом сознании необходимо является постепенным». «…лишь
философия религии, как связная система и полный синтез религиозных истин, может
дать нам адекватное (соответствующее) знание о божественном начале как
безусловном или всеобъемлющем, - ибо вне такого синтеза отдельные религиозные
данные являются лишь как разрозненные части неизвестного целого».60
В качестве таких «отдельных данных неизвестного целого» в «полном синтезе»
религии Соловьева обретают свою «правду» античный политеизм («первая ступень
религиозного откровения»)61 и буддизм («отрицательное
откровение»).62
«Наконец, на третьей ступени [которая сама
представляет несколько ясно различаемых фактов] божественное начало
последовательно открывается в своем собственном содержании, в том, что
оно есть само в себе и для себя».63
«Следуя за ходом развития религиозного сознания до
христианства» и «указывая главные фазисы этого развития», отдельным
«фактом третьей ступени»
[то есть, собственно «откровения божественного
начала»] Соловьев определяет
«александрийскую теософию». «Все эти фазисы
религиозного сознания заключаются в христианстве, вошли в состав его».64
То же самое касается христианского периода истории: католичества и
протестантизм, материализм и идеализм, Французская революция и социализм
оказываются «разрозненными частями целого». Пребывание гностика в
«высшей степени религиозного развития, высшей форме
божественного откровения»,65
или одесную «божественного начала», сообщает ему великодушие в отношении
отставших в духовном развитии.
«Так как божественное начало есть действительный
предмет религиозного сознания, то есть действующий на это сознание и
открывающий в нем свое содержание, то религиозное развитие есть процесс
положительный и объективный, это есть реальное взаимодействие Бога и человека –
процесс богочеловеческий. Ясно, что вследствие объективного и положительного
характера религиозного развития ни одна из ступеней его, ни один из моментов
религиозного процесса не может быть сам по себе ложью или
заблуждением. <…> Из различия в степенях религиозного откровения
нисколько не следует неистинность низших степеней. <…> в религиозном
развитии низшие ступени в своем положительном содержании не упраздняются
высшими, а только теряют свое значение целого, становясь частью более полного
откровения».66
Априорное единство Бога
и мира («мировой души», «Софии», «всечеловечества») делает Боговоплощение в
этом квазихристианизированном пантеизме естественным явлением, соответствующим
природе мира и человека.
«…реализация божественной идеи в мире есть
постепенный и сложный процесс, а не один простой акт», поскольку «свободным
актом мировой души объединяемый ею мир отпал от Божества и распался сам в себе
на множество враждующих элементов; длинным рядом свободных актов все это
восставшее множество должно примириться с собою и с Богом и возродиться в форме
абсолютного организма».67
Даже у Достоевского (в
сравнении с Соловьевым) эта основная для религиозного романтизма идея
«имманентности трансцендентного», или «реализации идеального», высказывалась
еще не столь радикально:
«Слово
плоть бысть, т.е. идеал был во плоти, а стало быть, не невозможен и достижим
всему человечеству. Да разве человечество может обойтись без этой утешительной
мысли? Да Христос и приходил затем, чтоб человечество узнало, что знания,
природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле
и во плоти, а не что в одной только мечте и в идеале, что и естественно и
возможно. Этим и земля оправдана».68
У Соловьева же все
наработки предшественников складываются уже в законченную еретическую систему:
«воплощение Божества, не есть что-нибудь чудесное в собственном смысле, то
есть не есть нечто чуждое общему порядку бытия, а, напротив, существенно
связано со всей историей мира и человечества, есть нечто подготовляемое и
логически следующее из этой истории. Воплощается в Иисусе не трансцендентный
Бог, не абсолютная в себе замкнутая полнота бытия (что было бы невозможно), а
воплощается Бог-Слово, то есть проявляющееся вовне, действующее на периферии
бытия начало, и его личное воплощение в индивидуальном человеке есть лишь
последнее звено длинного ряда других воплощений, физических и исторических, –
это явление Бога во плоти человеческой есть лишь более полная, совершенная
теофания в ряду других неполных подготовительных и преобразовательных теофаний.
С этой точки зрения, появление духовного человека, рождение второго Адама не
более непонятно, чем появление человека природного на земле, рождение первого
Адама. И то и другое было новым, небывалым фактом в мировой жизни, и то и
другое представляется в этом смысле чудесным; но это новое и небывалое было
подготовлено всем прежде бывшим, составляло то, чего желала, к чему стремилась
и шла вся прежняя жизнь: к человеку стремилась и тяготела вся природа, к
Богочеловеку направлялась вся история человечества»).69
Последующая рецепция
«Освященная» классиками отечественной религиозной
мысли – Хомяковым и Киреевским, Достоевским и Соловьевым –
гностическо-неоплатоническая идея антропогонии становится постоянной величиной
апологетики отечественной философской и даже богословской мысли. Достаточно
широко известно и признано, что из учения Соловьева выходит все «новое
религиозное сознание» духовно-революционной эпохи декаданса. Гораздо реже
осознается то, что не миновали магических чар этого неогностицизма и
неоплатонизма многие мыслители консервативного направления.
Например, И.Ильин:
«В противоположность всякому интернационализму, –
как сентиментальному, так и свирепому; – в противовес всякой денационализации,
бытовой и политической – мы утверждаем русский национализм, инстинктивный
и духовный, исповедуем его и возводим его к Богу. <…> Каждый народ имеет
национальный инстинкт, данный ему от природы (а это значит – и от Бога), и
дары Духа, изливаемые в него от Творца всяческих. И у каждого народа инстинкт и
дух живут по-своему и создают драгоценное своеобразие. <…> Раскрывая
его, осуществляя его, мы исполняем наше историческое предназначение,
отречься от которого мы не имеем ни права, ни желания. Ибо всякое
национальное своеобразие по-своему являет Дух Божий…»70
Несмотря на то, что формально, казалось бы, говорится
о святынях Христианства и «в противоположность всяким» западным (либеральным и
социалистическим) «интернационализмам», Христианство как таковое фактически
упраздняется, если Пятидесятница – это естественный процесс, присущий «каждому
народу».
Явственно звучат принципы восходящего всеединства
(пребывающего Царствия Божия на земле, прогрессирующего харизматизма и
стихийной теофании) уже, собственно, в богословии, в частности, у митр.
Никодима (Ротова), свящ. Александра Меня и др. представителей этой легко
узнаваемой школы.
С самого начала подготовка человечества к будущему
воссозданию всего творения Божия (Откр 21:5) животворящей энергией
богочеловечества происходит двумя различными путями: непосредственно в
Церкви, или в “граде Божием”, и за ее видимыми границами — в “земном граде”.
Конечно, ближайшим и ценнейшим плодом пересоздающей мир Божественной
деятельности является Церковь, но область Царства Божия шире, чем область
собственно церковной жизни. Христос — Спаситель всех человеков (1Тим 4:10),
будучи Главой Церкви, действует и явно, и сокровенно в душах всех людей, ради
спасения коих Он пришел на землю (1Тим 2:4). Но отсюда следует, что и Церковь,
как Его тело, простирает свое действие в той или иной степени на все
человечество. За пределами “града Божия” происходит также постепенное
обновление мира, состоящее в созидании сокровенных элементов Царства Божия, на
основе рассеянных среди “земного града” и зреющих в нем “сперматических
логосов” истины и добра. <…> Христиане и другие люди доброй воли могут,
таким образом, являться как бы естественными союзниками в этой священной
борьбе, будучи разумными орудиями или даже служителями и соработниками Божиими
в Его преобразующей человечество деятельности» (митр. Никодим (Ротов)).71
Рудименты этого богословского романтизма до сих пор
можно услышать в проповедях патриарха Кирилла:
«…Божественные слова, которые дарует нам Господь,
преобразуют нашу жизнь, помогают удержать то доброе, чем мы владеем, и взойти
на новые ступени духовного развития, которые еще вчера были нам не под силу».72
«…И человеческий успех, и развитие, и все то, что
несет нам современная цивилизация, в свете этой веры может быть преображено,
может действительно послужить полноте человеческой жизни».73
«Священная история вплетена в историю человеческого
рода. Один и тот же человек может быть героем и одной, и другой истории.
<…> священная история не только переплеталась с историей общей, но и
проникала в эту человеческую историю, и тогда достигался самый большой успех.
<…> Когда одно проникает в другое, когда Божественное оплодотворяет
человеческое, — только тогда удается достичь тех целей и покорить те вершины,
которые невозможно покорить, если обычная человеческая история отрывается от
истории священной».74
О том, куда могут завести полуоккультные идеи религиозного романтизма,
можно судить по следующему современному тексту:
«Философия всеединства есть не просто система
знаний. Она есть также и руководство к действию. Почему это возможно? Потому
что она обладает двойственной природой: человеческой и богоданной. Она
создана людьми, их живой мыслью, разумом, гением, их чувственной интуицией и
поэтическим вдохновением <…> Однако её содержание – от Бога. Оно бралось
в моменты высочайшего мыслительно-творческого экстаза у самого Престола Божия,
потому это содержание истинно. По той же причине оно может руководить
поступками человека. Служить образцом реальной земной жизни, а также быть
эталоном богопознания. Русская философия всеединства сегодня нужна нам как
воздух. В ней – надежда преодоления общечеловеческого кризиса
богооставленности. С её идеями Свет и Смысл возвращаются в мир. Нельзя упустить
этот шанс. А значит, дело русских философов нужно продолжать. Где же, как ни в
России начинать возрождение идей всеединства?»75
Здесь же формулируются основные принципы этой «высшей религии», по которой
планируется строить всю человеческую жизнь.
«В мировоззренческом плане уже не могут ставиться
узконациональные задачи, поэтому русская философия всеединства нужна нам как
базис общемирового гнозиса. Однако историческое дело каждой нации – главное
достояние мирового сообщества. Задача не устранять различия между этими делами,
а расширять и усиливать мощь всякой национальной самобытности до степени её
окончательного совершенства. Здесь результаты всех таких “расширений” сольются
в торжество всецелой Истины, открытой и прозрачной для всех. Поэтому, если в
индо-тибетской культуре, как мне кажется, путь возвращения к Богу лежит через
Синтез Йоги, в ирано-мусульманской культуре – через Веру Бахаи, то в России –
через философию всеединства. Пройдя все пути до конца, мы обретём долгожданную
Встречу в Боге-Омеге (как писал об этом Пьер Тейяр де Шарден). Схема духовного
пути человечества, предложенная мной на основании трудов русских философов
всеединства: I. София актуализирует заложенный в человеке потенциал творческих
сил. II. Эти силы, которые суть деятельные сущности (идеи)» [или
бесы – с точки зрения Священного Предания. – А.Б.] «стремятся обрести
своё тождество, стать истинными. III. Механизм воздействия этих сущностей на
человека раскрывается в интуитивном познании, которое представляет собой
преодоление Я своей гносеологической замкнутости и встречу с живыми идеями»
[сиречь бесами. – А.Б.]. «IV. Мышление, осуществляющее в себе эту
процедуру, есть органическое мышление» [или «прелесть бесовская» – в
терминах Священного Предания. – А.Б.]. «Его результатом должен
явиться Организм Идей» [или «геенна огненная» – на языке Священного
Писания. – А.Б.], «т.е. новое состояние материи, в котором
преодолевается взаимонепроницаемость тел в пространстве, поскольку каждое тело
обретает тождество со своей абсолютной идеей. V. Становится возможным
воплощение таких универсальных и всеобъемлющих идей как София, Бог, Всеединое
Царство. VI. Человек и Бог, Человек и София, будучи отныне существами-идеями
единого порядка, получают возможность личного общения и совместного творчества.
VII. Цель настоящего эона достигнута».76
Александр
Буздалов
______________________________________
1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., «Институт Русской цивилизации», 2008. С.139.
2 Богословские труды,
№28. М.: Изд. Московской Патриархии. 1987. С. 315–338.
3 Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. М.,
«Мысль», 1977. Т.2. С.168.
4 Киреевский И. О необходимости и возможности новых
начал для философии / Киреевский И. Полн. собр. соч. М.,1911. Т.1. С.223. Далее
ссылки на это издание в сокращенном формате: К.,I,223.
5 Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. М.,
«Мысль», 1977. Т.2. С. 175.
6 Там же; с.168.
7 Киреевский И. О необходимости и возможности новых
начал для философии / К.,I,235.
8 Там же / К.,I,223-224.
9 Там же / К.,I,235.
10 Там же / К.,I,225.
11 Там же.
12 Там же К.,I,228.
13 Там же / К.,I,237.
14 Там же / К.,I,249.
15 Там же / К.,I,250-251.
16 Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. Цит.
изд. Т.2. С. 202.
17 Киреевский И. О необходимости и возможности новых
начал для философии / К.,I,238-239.
18 Там же / К.,I,248.
19 Там же / К.,I,239.
20 Там же / К.,I,241.
21 Там же / К.,I,242.
22 Хомяков А. Записки о всемирной истории / Х.,V,153. Далее в этой главе ссылки на «Записки» в тексте в скобках.
23 Хомяков А. Церковь одна / Х.,II,4.
24 Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. Цит. изд. Т.2. С.201-202.
25 Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. Цит.
изд. Т.1. С. 225-226.
26 Достоевский Ф. Дневник писателя. 1876, июнь, гл. 1, I / Д..,XXIII,30-31.
27 Достоевский Ф. Записная тетрадь 1876-1877гг. / Д.,
XXIV, 253.
28 Достоевский Ф. – Достоевскому М.М. 1.01.1840 / Д.,XXVIII(1),69.
29 Достоевский Ф. Дневник писателя. 1876, июнь / Д..,XXIII,37.
30 Достоевский Ф. Записная тетрадь 1863-1864 гг. /
Д.,ХХ,174.
31 Достоевский Ф. Бесы. Подготовительные материалы /
Д.,XI,106; 182; 192.
32 Гегель Г. В.Ф. Философия религии в двух томах. М.,
«Мысль», 1976. Т.1. С.422.
33 Достоевский Ф. Социализм и христианство. Записная
тетрадь 1864-1865 гг. / Д.,XX,191-194.
34 Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. Цит.
изд. Т.2. С.167-168.
35 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн.3.
СПб.: Наука, 1999. С.103.
36 Достоевский Ф. Дневник писателя. 1880, август, гл.2
(очерк «Пушкин») / Д.,XXVI,146-148.
37 Там же / Д.,XXVI,145.
38 Достоевский Ф. - Страхову Н.Н. 18 (30) марта 1869. / Д.,XXIX(1),30.
39 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Цит. изд. С.81;86
40 Аксаков И.С. Доктрина и органическая жизнь. День,
1861. №5. С.2.
41 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С.112.
42 Там же; с.106.
43 Там же; с.133.
44 Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. Т.2.
С.175.
45 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С.114.
46 Там же; с.142.
47 Там же; с.150.
48 Там же; с.205.
49 Там же; с.210.
50 Там же; с. 231-235.
51 Там же; с.92.
52 Достоевский Ф. Бесы. Подготовительные материалы / Д.,XI,106.
53 Соловьев В. Чтения о богочеловечестве. Статьи.
Стихотворения. СПб., «Худож. лит.»,1994. С.42.
54 Фурье Ш. Новый промышленный и общественный мир /
Фурье Ш. Избранные сочинения. М., «Государственное социально-экономическое
издательство», 1939. Т.II. С.296.
55 Соловьев В. Чтения о богочеловечестве. С.42.
56 Там же; с.34.
57 Там же; с.43.
58 Там же; с44.
59 Там же; с.55.
60 Там же; с.64.
61 Там же; с.69.
62 Там же; с.70.
63 Там же.
64 Там же; с.136.
65 Там же; с.67.
66 Там же; с.66.
67 Там же; с.169-170.
68 Достоевский Ф. Бесы. Подготовительные материалы / Д.,XI,112.
69 Соловьев В. Чтения о богочеловечестве. С.187-188.
70 Ильин И. О русском национализме / Ильин И. Наши
задачи. Париж, 1956. Т.1. С.270.
71 митр. Никодим (Ротов). Христианская ответственность
за лучший мир. Доклад на IV Всехристианской конференции 30
сентября 1971 года / ЖПМ. 1972, №1. С.22.
72 Проповедь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
на Божественной литургии в Корецком монастыре. http://www.patriarchia.ru/db/text/711414.html.
73 Проповедь Патриарха Кирилла за Божественной литургией
в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. http://www.patriarchia.ru/db/text/967398.html.
74 Проповедь Патриарха Кирилла в неделю 29-ю по
Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, в Храме Христа Спасителя. http://www.patriarchia.ru/db/text/1919545.html.
75 Подзолкова Н. Русская философия всеединства: традиции
школы. Екатеринбург, 2000. С.4-5.
76 Там же; с.88-89.






Комментарии
У этой статьи нет комментариев