От истории догмата к догмату истории
Дата создания:
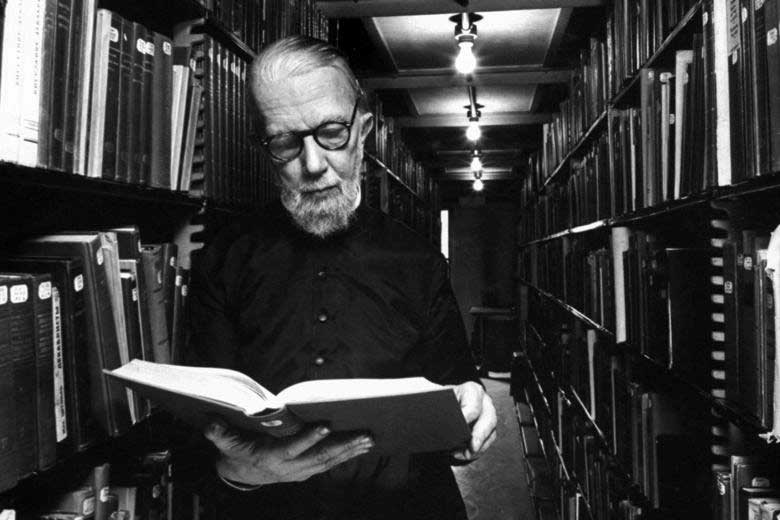
Феномен значительного влияния религиозной философии славянофилов и почвенников на представителей богословского модернизма позволяет нам лучше понимать идеологию того и другого, поскольку их основные мотивы, устремления и принципы отражаются друг в друге, как в магическом зеркале. «Как и у Гегеля, история станет центральным понятием в теологии Георгия Флоровского, считает Совэ. Флоровский будет историцизировать теологию аналогично Гегелю, а именно объясняя ее смысл, цели и проблемы в понятиях истории» (Нешич Л. Предание, Флоровский, Гегель и православное богословие: гегелевская концепция историзации философии как источник неопатристического синтеза). Ключевым для нас в данном свидетельстве является понятие «историзирования теологии», что означает секуляризацию богословия.
Историзировать что-либо означает перевести это на язык современности и, тем самым, одомашнить, сделать понятным эмпирическому человеку, т.е. адаптировать что-то к сознанию человека данной исторической эпохи («объясняя смысл, цели и проблемы» объекта историзирования «в понятиях» современности). Поэтому термины «историзм» и «модернизм» является, по сути, синонимами. Однако поставить что-то в контекст своего времени – значит не столько лишить его измерения вечности, сколько само временное сделать актуальной или даже единственной формой непреходящего и непреложного, в данном случае – заменить сакральное светским, божественное – человеческим. Соответственно, «историзировать философия» (случай Гегеля) – означает превратить философию (как любовь к истине, объективному знанию и мудрости) в любовь к «современному», или попросту собственному представлению о них. Таким образом, «историзм» выступал псевдонаучной ширмой такой софистической манипуляции, как замены традиционного (т.е. христианского) содержания всех основных понятий на субъективные по банальному принципу «я так вижу», или «я так думаю», что, тем не менее, напористо преподносилось наивному массовому сознанию как откровение о «вещах-в-себе», как могущественное раскрытие сущности всего на свете. Это можно сравнить с деятельностью иллюзионистов, набиравших популярность примерно в ту же эпоху. Принцип действия тех и других был одинаковый: создание иллюзии реальности, производство симулякров, только в одном случае это была иллюзия визуальная, а в другом – ментальная. Иными словами, Шеллинг и Гегель был такими же шарлатанами философии, как графы Калиостро и Сен Жермены предыдущего века – шарлатанами «волшебства». Те показывали фокусы «превращения» одной вещи в другую, а эти – «диалектические» фокусы «синтезирования» истины из подручных материалов, превращения «противоположностей» – в «единство». «Наука логики» Гегеля – это такое сочинение, в котором на поверку не обнаруживается ни науки, ни логики. Но все это подавалось настолько «наукообразно», в такой сложносочиненной терминологии и методологии, в таких «философских» декорациях и с такими «академическими» эффектами, что это «шоу мысли» в образованном обществе шло на ура как беспрецедентный прорыв к подлинному знанию. И среди широкой аудитории этого артиста, если не в первых рядах, были, конечно, и представители России, т.е. отечественные «любомудры», ставшие жертвами этой «абсолютной диалектики», жадно схватывавшие западное «просвещение» и на крыльях мысли несущие его на родину, просвещать своих безнадежно отставших в «историческом развитии» ближних, сидящих со своими лампадами и свечами в сумерках средневековья.
«…если как-нибудь в состоянии мне переслать не официально, то пришли непременно Гегеля, в особенности Гегелеву “Историю философии”. С этим вся моя будущность соединена!» (Достоевский Ф. – Достоевскому М.М. 30 января—22 февраля 1854 / Д.,XVIII,173).
Отсюда и «историзирование православия» славянофилов и почвенников как перевод ортодоксального Христианства на язык всего «русского-народного», т.е. постановка «истины» на рельсы той же самой германской диалектики, только уже в антураже национальной культуры, благо, что сам принцип «единства противоположностей» (как главного фокуса-покуса этой «белой магии») позволял выдавать за «православное» все, что твоей душе угодно.
«Я думаю, что философия немецкая, в совокупности с тем развитием, которое она получила в последней системе Шеллинга, может служить у нас самою удобною ступенью мышления от заимствованных систем к любомудрию самостоятельному, соответствующему основным началам древне-Русской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цельному сознанию верующего разума» (Киреевский И. О необходимости и возможности новых начал для философии / Киреевский И. В. Полное собрание сочинений: в 2 т. СПб., 1904. Т.1. С.264).
Эта утопическая «христианизация» немецкой диалектики, провозглашенная Киреевским в качестве первоочередной задачи, стоящей перед «цельным сознанием верующего разума», а именно, метущегося между Христианством и языческой философией разума самого Киреевского и ему подобных «любителей» (в худшем значении этого слова) «мудрости», и выступает в качестве основного исторического бэкграунда богословской химеры «неопатристического синтеза» о. Георгия Флоровского как попытки «воцерковления» этой инородной Евангелию философии, соединения вульгарных ересей антропотеизма и пантеизма, составляющих суть немецкого идеализма, с догматическим учением Церкви. Соответственно, «историзирование теологии» будет означать ту же неогностическую профанацию Христианства, потому что никакой другой цели всякое неогегельянское «историзирование» не преследовало изначально (в самой установке Киреевских и Достоевских, одержимых идеей соединить несоединимое: духовно враждебные друг другу христианские и языческие «начала образованности»). Цель аутентичного (германского) «историзма», повторим, была вовсе не познание мира, человека, истории, Христианства, Бога, одним словом, Истины, но приспособление ее к сознанию эмпирического, т.е. падшего человека с его «диалектикой» страстей. Где внутренний хаос этого «исторического» сапиенса определяет и самому методологию этой гностической квазинауки, т.е. «диалектику противоположностей». Как «историзирование философии» в гегельянстве означало создание таких условий, в которых объективное знание становилось невозможным, поскольку, тем самым, происходила абсолютизация самого софистического произвола мысли (поэтому из «диалектики» этого «историзма» тут же родились идеологии марксизма, национал-социализма и много чего еще вплоть до постмодернизма, т.е. «лжеименное знание» любого содержания); так и «историзирование теологии (патристики, православия)» означало, что с ортодоксальным Христианством исторически покончено, потому что его божественная Истина отдавалась на откуп частного мнения дилетантов и сумасбродов, бравшихся «синтезировать» неохристианство как им заблагорассудится, «соединяя» святое и греховное, православное и еретическое, евангельское и языческое в любых сочетаниях и пропорциях, потому что никакого иного критерия истины, кроме своеволия чародея-чернокнижника этого «историзированного богословия» уже не существовало.
«Ибо идеализм есть религиозная система. Идеализм религиозен в своей проблематике, в своих замыслах и темах. Он хочет быть спекулятивным богословием. Немецкие идеалисты спрашивали о последнем, о безусловном, искали окончательных ответов. Они притязали на абсолютное познание, строили системы абсолютного знания о Боге и мире. Для большинства из них христианство оставалось абсолютной религией. Они искренно считали себя христианами, говорили на христианском языке. Они стремились к обоснованию или “оправданию” христианской веры, возводимой при этом на высшую ступень разумного сознания» (прот. Георгий Флоровский. Спор о немецком идеализме / прот. Георгий Флоровский. Христианство и цивилизация. Избранные труды по богословию и философии. СПб., изд-во РХГА. 2005. С.402-403).
Аналогичным образом славянофилы и почвенники, будучи неогегельянцами и неошеллингианцами, «искренно считали себя христианами», будучи носителями множества несовместимых с Христианством еретических идей, которыми они стремились его «обосновать и оправдать», т.е. «оправдать» именно Христианство перед этими ересями, «обосновав» ими Евангелие. Перенесение принципов «исторической диалектики» в богословие означало, прежде всего, «христианизация» греховных страстей и реабилитацию всевозможных лжеучений либо «синтезирование» новых. Что, собственно, и составляет сущность всякого богословского модернизма как «историзированного (гуманизированного, секуляризированного) христианства», как православия с «человеческим лицом», начиная со славянофильства и почвенничества как «русского-народного христианства», где «форма есть процесс осуществления содержания». Невозможно было сохранить при этом дух Христианства, не дав ему раствориться в романтическом бреду «христианского любомудрия». Потому что для того и явились все эти самозваные «великие пророки земли русской», чтобы быть вместо всех предыдущих пророков и апостолов «первоверховными глашатаями» Абсолюта.
«Человек <….> идет от многоразличия к Синтезу <….> А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в Анализе» (Достоевский Ф. Записная книжка 1863-1864 гг. / Д.,XX,174).
То же самое произошло и с Флоровским. Поставив перед собой (т.е. перед всей новой ортодоксией в своем лице) задачу «повторной эллинизации христианства», он, во-первых, не мог этого сделать иначе, кроме как посредством немецкого классического идеализма (выступавшего единственной подходящей для этой цели всеобъемлющей философской парадигмой эпохи модерна), а во-вторых (и что самое главное), он демонстрировал, тем самым, что даже сама эта установка на «эллинизацию» как «диалектический синтез» обусловлена этой философией «нового эллинизма».
«Ведь немецкий идеализм не был только немецким. Он был вселенским событием. Он обозначает какой-то общий момент в исторической судьбе европейского мира. <…> в сознании немецкого идеализма определяющими были греческие влияния. Античность стала миром очарований, — и не только для Гете, но и для Гегеля. Для Гегеля древняя Эллада навсегда оставалась какой-то идеальной парадигмой человечности. Романтическое противоположение двух типов жизни, цельной и разорванной, возникло первоначально также из сравнения современности именно с античным миром... И речь идет не только об увлечении античностью вообще. Можно говорить о творческом возрождении античных традиций мысли в немецком идеализме, об острой эллинизации немецкого философского сознания» (прот. Георгий Флоровский. Спор о немецком идеализме. Цит. изд. С.403-404).
Т.е. само восприятие Флоровским патристики (видение в ней вслед за Киреевским «синтеза» Евангелия с платонизмом) было уже гегельянским, или тюбингенским, по своему духу.
«Величайшие светила Церкви <…> были не только глубоко знакомы с древней философией, но еще пользовались ей для разумного построения того первого Христианского любомудрия, которое все современное развитие наук и разума связало в одно всеобъемлющее созерцание веры» (Киреевский И. О необходимости и возможности новых начал для философии. Цит. изд. С. 239).
То же самое должны были сделать и новейшие «церковные светила» первой величины в лице самих славянофилов, почвенников для создания «всеобъемлющего созерцания веры», использовав для этой цели лучшие образцы «современного развития наук и разума» в виде философских систем Шеллинга и Гегеля. Поэтому ничего другого, кроме оязычивания Христианства, не могло получиться и в результате «неопатристического синтеза» у Флоровского, перед которым «подымался» тот же «вопрос о возможности и необходимости христианской метафизики» (прот. Георгий Флоровский. Спор о немецком идеализме. Цит. изд. С.423) и который не имел под рукой других «начал» для конструирования нового богословия, кроме того же немецкого идеализма как реанимированного эллинизма.
«И в немецком идеализме эллинистична, прежде всего, проблематика... Античная мысль всегда всего более недоумевала об эмпирическом, о подвижном, о множественном. <…> Эллин отрекался от этого мира, но отрекался от его раздробленности и текучести, [а] не от его множественности. Напротив, он стремился к оправданию этой множественности. <…> Учение о вечном идеальном мире, о мире первообразов и форм и было творческим открытием, великим историческим делом эллинского гения в философии. Завершается античная метафизика неоплатоническим учением о Едином. И для эллина Единое остается творческим источником всего происходящего, “где первообразы кипят”... Античная философия была оправданием мира, учением об устойчивости мира» (прот. Георгий Флоровский. Спор о немецком идеализме. Цит. изд. С.405).
Таким же «оправданием», или идеализацией падшего мира была, безусловно, и немецкая неоязыческая философия, за что она удостаивалась высоких оценок Флоровского вслед за славянофилами и почвенниками. «Если оглянемся на историю философии, то увидим, что историцизм Гегеля был прямой атакой на чистый абстрактный идеализм его предшественников. В этой атаке Гегель будет использовать эмпирический историцизм. Тот же метод — в его концепции неопатристического синтеза — будет, по мнению Шоу и Совэ, принят отцом Георгием Флоровским» (Нешич Л. Предание, Флоровский, Гегель и православное богословие: гегелевская концепция историзации философии как источник неопатристического синтеза). Что означает, что «неопатристика» Флоровского «была прямой атакой на чистую» ортодоксию патристики как таковой как всех его «предшественников», в которой он использовал тоже оружие «эмпирического историзма», или «диалектического синтеза» всего со всем. Не удивительно, в результате у Флоровского оказалось, что «законченной системы догматов в христианстве нет и быть не может, ибо Церковь вечно в пути», т.е. в непрерывном догматическом развитии, в постоянном процессе усовершенствования познания.
«Священная история Искупления продолжается. Теперь это история Церкви, которая есть Тело Христово. Дух-Утешитель обитает в Церкви. Законченной системы догматов в христианстве нет и быть не может, ибо Церковь вечно в пути. И Библия хранится в Церкви как историческая книга, призванная напоминать верующим о динамической природе, “многократности и многообразности” Божественного Откровения» (прот. Георгий Флоровский. Откровение и истолкование. История и догмат / Протоиерей Георгий Флоровский. Догмат и история (Православная богословская библиотека. Выпуск 1). М., изд-во Свято-Владимирского Братства, 1998. С.38).
Как философия для Гегеля это «самосознание человечества», меняющееся в различных исторических обстоятельствах, но при этом сохраняющее неразрывную связь с Мировым Духом, тем самым, познающим Себя в этом эмпирическом «многоразличии», аналогичным образом (т.е. антропотеически) переживали мировую историю и славянофилы с почвенниками, поэтому она заканчивалась здесь хэппи-эндом «самопознания абсолюта», «русского социализма», созданием глобального «государства-церкви» и т.п. диалектическими химерами «всеединства».
«И если нет еще этого [всесветного] единения [во имя Христово], если не созижделась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют» (Достоевский Ф. Дневник писателя. 1881, январь, гл.1, IV / Д.,XXVII,19).
В богословие Флоровского этот неоязыческий антропотеизм, конечно, выражался не столь радикально, как у отцов нового гностицизма. Тем не менее, его влияние несомненно и справедливо отмечается многими исследователями. У Флоровского это проявляется не прямо в «теологии истории», как у Гегеля и Шеллинга, а в богословском персонализме и экуменизме. Если в первом случае осуществляющееся в истории «воплощение Мирового Духа» делало «священной» саму историю «мира сего», определяя непрерывность его поступательного развития, то у Флоровского «бесовская прелесть» этого неогностицизма сказывалась в учениях о «личности» и о «границах церкви», которые оказывались «божественно неопределимы».
«Можно сказать, что идеалистическая философия была учением о Богочеловечестве. Но она была учением о вечном Богочеловечестве, о вечных Богочеловеческих связях» (прот. Георгий Флоровский. Спор о немецком идеализме. Цит. изд. С.418).
То же самое можно сказать о богословском персонализме вообще и персонализме Флоровского, в частности: это было не менее мифическое учение о «вечном богочеловечестве» личности, о «вечных связях» личностного бытия с божественным бытием, о тесной взаимосвязи их «тайн». Общим местом теологического персонализма был апофатизм как мистификация личности, о которой нельзя уже было сказать ничего определенного, которая характеризовалась только тем, чем она не является («несводимостью к природе», в частности), и что преподносилось как новый аспект божественных «образа и подобия» человека. Т.е. общим для идеалистической философии и нового богословия был «иератический» горизонт, который открывался перед человеком и человечеством по какому-то непреложному закону самой его природы, что делало естественным и поэтому неизбежным переход его в будущем в «трансцендентное» (сверхъестественное) состояние, «соединение с Богом» как восстановления первоначального положения, как обретение своего «высшего я» на путях «свободного творчества» и т.п.
«Но если человек [в будущей жизни] не человек – какова же будет его природа? Понять нельзя на земле, но закон ее может предчувствоваться и всем человечеством в непосредственных эманациях [происхождение Бога] и каждым частным лицом» (Достоевский Ф. Записная книжка 1863-1864 гг. / Д.,XX,174).
И что было такой же революцией в богословии, каковой была гегельянская диалектика в философии. Сущностью той и другой революции была такая секуляризация, которая своим обмирщением не просто отменяло сакральное, но занимало его место, сам свой «эмпиризм», сами свои (и потенциально любые наличные) исторические формы выдавая за «воплощение абсолютного», за «христианское» и «церковное», идеологически «пресуществляя» или всякую плоть – в «член» гностического «Тела Христова», или всякий дух – в «частицу» Духа Истины, или всякую секту – в «частицу» Церкви и т.д.
«Бог открывается в смене убегающих образов, das Goettliche sich nur voruebergehend offenbaret... Эти исторические образы никогда не останавливаются... И, однако, Шеллинг утверждает теперь возможность “исторических конструкций”. Все “случайное” снимается. Ибо “история исходит из вечного единства и коренится в Абсолютном”... Только отдельное кажется здесь свободным, а целое скреплено вечной необходимостью» (прот. Георгий Флоровский. Спор о немецком идеализме. Цит. изд. С.419).
Так экуменизм стал для Флоровского тем же, чем софиология для Булгакова или нравственный монизм – для Храповицкого, а именно, проекцией лжехристианской философии всеединства в богословие. История Церкви осмыслялась здесь по диалектической логике того же гностического мифа о грехопадении (в данном случае – историческом распаде «вечного единства» Церкви на множество «ветвей», различных по своему экклезиологическому достоинству, или качеству) и утопии последующего («возможного и необходимого») восстановления этого утраченного единства, в котором диалектически «снималась» мнимая «противоположность» отдельных элементов и все получали свое «обоснование и оправдание», свое законное место в экуменическом «Теле Христовом», свою меру гностической «благодати», которой этот «христианский любомудр» столь же «свободно» распоряжался, как Гегель – «Мировым Духом», щедро уделяя его каждому от своей достигнутой «полноты», потому что «вся человеческая неправда и неправота не останавливает и не преграждает круговращения Духа» (прот. Георгий Флоровский. Проблематика христианского воссоединения / прот. Георгий Флоровский. Христианство и цивилизация. Цит. изд. С.509).
Александр Буздалов






Комментарии
Фотиния
2023-12-02 18:33:32
"Знающих людей в Москве очень мало; их можно по пальцам перечесть, но зато философов, мыслителей и новаторов не оберешься — чертова пропасть... Их так много, и так быстро они плодятся, что не сочтешь их никакими логарифмами, никакими статистиками. Бросишь камень — в философа попадешь; срывается на Кузнецком вывеска — мыслителя убивает." А. П. Чехов. Осколки московской жизни, 1883"