«Рональд Хаббард» православного антимодернизма
Дата создания:

Рональд Хаббард, патриарх «науки душевного здоровья»
Дискурсу Романа Вершилло свойственна афористичность. Он пишет короткими, лаконичными фразами, которые, казалось бы, должны быть предельно ясны и понятны для каждого. Это тебе не длинные и сложные силлогизмы, например, Александра Буздалова, где даже подготовленному читателю не всегда бывает легко проследить цепь причинно-следственных связей. Напротив, Роман Алексеевич сразу дает готовый ответ, опуская решение задачи, всю доказательную часть, всю черновую работы мысли. И, тем не менее, даже его преданные читатели порой жалуются на непонятность прочитанного в целом, несмотря на то, что этот автор зачастую использует просто трюизмы, повторяет, что называется, избитые истины.
«Очень вредные вещи встречаются нечасто» (Вершилло Р. vk.com/antimodernism).
Или, как еще «проще» сказал Форрест Гамп, «дерьмо случается».
«...наша задача состоит в том, чтобы составить правильные и ясные понятия об истинном и ложном» (Вершилло Р. vk.com/antimodernism), –
декларирует Роман Алексеевич свою цель. – «Не очень-то вы со своей задачей справляетесь», – делится впечатлением комментатор. И это далеко не единичный случай, не банальный хейтинг, как можно было бы подумать. Стиль самый что ни есть лапидарный, а ясности все равно нет. Может быть, это так потому, что сами понятия Вершилло бессодержательны? Как это было, например, с Косьмой Прутковым, который «в большей части своих афоризмов или говорит с важностью казённые, общие места; или с энергиею вламывается в открытые двери» (Козьма Прутков. Полное собрание сочинений. 2-е изд. Л., «Советский писатель», 1965. С.393-394). Также это можно сравнить с впечатлением от текстов по «дианетике» («современной науке душевного здоровья»), или «саентологии», и ей подобных псевдонаук и деструктивных культов, когда «в одно ухо влетает, а из другого вылетает», не оставив после себя никаких смыслов, за которые мышлению можно было бы зацепиться.
Понятие «патологического сознания» как «болезни ума (или души)» и противоположное ему понятие «разумного сознания», или «порядка в душе человека», являются основными в гносеологии и антропологии Вершилло, с помощью которых он выстраивает свою философию, заявленную как христианская. В таком случае проверка этих понятий на принадлежность их к Христианству и должна стать для нас ключом к объективной оценке дискурса этого автора и, в частности, объяснить коренные причины хронической непонятности как выхолощенности его предикатов, острого дефицита наполненности его текстов содержанием.
Если православный антимодернизм указывает на пагубное влияние философии романтизма и немецкого классического идеализма как нового гностицизма на академическое богословие того же периода как на основной механизм искажения последним догматического учения Церкви и патристического богословия, то то же самое должно работать и в отношении самой патристики, влияние на которую неоплатонизма и стоицизма (как классической философии своего времени) должно быть подвергнуто аналогичной проверке. Потому что не что иное, как неоплатонизм в свою очередь берется за образец истинного знания о мире и человеке и в шеллингианстве с гегельянством. Однако в случае святоотеческого богословия этот принцип почему-то уже не работает: принято считать, что Отцы Восточной Церкви сумели правильно переварить философию Плотина, извлечь из его парадигмы полезное для догматической науки и отбросить всё вредное. Но с чего, собственно, вы решили, что это полезное там есть вообще? Разве божественных истин Откровения недостаточно для формулировки догматов вероучения и без использования понятийного аппарата и категорий светской философии это сделать невозможно? В таком случае и богословский модернизм в своем «неопатристическом синтезе» взял только «хорошее» из немецкой философии всеединства, потому что, повторим, он сделал ровным счетом то же самое, причём осознанно используя тот же самый метод синтеза Св. Писания с античной мудростью, которым формировалась патристика. Между тем с точки зрения самого Писания, мудрость античности является безумием и ложным знанием, поэтому любой синтез с ним истин Откровения может привести только к ее искажению. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И ещё: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» (1Кор 3:18-20). «Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? <…> И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» (2Кор 6:15-17). Поэтому всякий автор, претендующий на христианскую философию, но при этом априори исходящий из того, что синтез Апостола с Аристотелем и Евангелия с Платоном это путь, прямиком ведущий к истине, потому что им прошли крупнейшие авторитеты церковной мысли, такой автор, на самом деле, находится в стратегическом заблуждении, потому что любое смешение истины с ложью, или мудрости с безумием (в терминах Апостола), на выходе даст в лучшем случае полуистину, а в худшем – как раз противоречивые и двусмысленные понятия («частные богословские мнения»), которыми такой автор будет вынужден оперировать, будучи убежденным в их истинности и однозначности. А всякую непонятность будет списывать на особенности восприятия своих читателей и слушателей, на проблемы их сознания. Что, собственно, и происходит в случае Романа Вершилло. Постоянные жалобы читателей на непонимание его текстов он объясняет патологией их сознания, «духовными болезнями», «невладением искусства чтения». Что опять-таки весьма напоминает методологию тоталитарных сект и деструктивных культов: у «мудреца» ошибки быть не может, он оракул Мирового Ума, причем в максимально упрощенной и адаптированной для восприятия форме. Если кому-то что-то остается непонятным, то это его проблемы: ему нужно усерднее изучать «современную науку о разуме» (название программного труда Р. Хаббарда) и с ее просветительской помощью продолжать работать над собой, еще решительней избавляться от «болезней души»...
Однако, повторим, проблемы, на самом деле, могут быть у самого автора, причём не менее серьезные чем тот диагноз, который он ставит своим читателям: современным христианам и духовно-больному обществу вообще. Влияние неоплатонизма и стоицизма на патристику (опосредованно через Оригена, в частности) является несомненным научно-историческим фактом, отрицать который значит просто вычеркивать свое имя из области корректных исследований и серьезных специалистов, обрекать себя на положение малограмотного дилетанта и шарлатана. Влияние было, и оно было значительным, и это нужно как-то внятно объяснить, потому что просто отмахнуться от него или предложить «смиренномудро» довериться во всем Отцам не получится. И с особой наглядностью данная проблема прослеживается в наследии как раз того святого отца, который является одним из самых непререкаемых авторитетов для Вершилло. Эволюция, которую претерпело богословие блаженного Августина (название сочинения которого – «Два града» – носит один из сайтов Романа Алексеевича), позволяет не только ярко проиллюстрировать указанную проблему рецепции неоплатонизма богословием патристики, но и продемонстрировать единственно верный путь ее решения.
Как известно всем специалистам (к числу которых, к сожалению, не относится сам Р. Вершилло), богословие блж. Августина в последний период его жизни было подвергнуто серьезной самоцензуре. После победы Вселенской Церкви над ересью пелагианства в 418-419 гг. Августин (как главный идейный вдохновитель этой борьбы) столкнулся с необходимостью переосмысления своих прежних воззрений в области антропологии и сотериологии, поскольку указанное влияние идей неоплатонизма в некоторой степени приводило церковную доктрину в этих аспектах вероучения к позициям, близким к пелагианству, в частности, к креационистической теории происхождения душ после грехопадения, что было скрытым или умеренным отрицанием передачи первородного греха от падшего Адама к потомкам. Результатом этой ревизии Августина стали два тома антипелагинских трудов позднего периода, которые, по сути, и являются подлинной или окончательной его позицией, т.е. богословским комментарием к учению Вселенской Церкви, выраженному на соборах в Карфагене 418 г., а затем в Эфесе 431 г. Так вот суть в том, что Вершилло не просто не знаком с этими текстами, но осознанно их отвергает, утверждая, что переводить их и изучать не следует: достаточно того Августина, которые уже переведен. А это, согласно духовному завещанию самого Августина – Церкви, несовершенное богословие, полупелагианское, или православно-неоплатоническое, двусмысленное и противоречивое. Не потому ли и собственная философия Вершилло является такой невнятной, что в ней на концептуальном уровне смешаны истина и ложь, Писание и «лжеименное знание» (1Тим 6:20) языческих софистов? Не потому ли, что этот автор цитирует в своих сочинениях Аристотеля не меньше, чем св. ап. Павла, его читатели и не могут ничего сохранить в сознании от прочитанного, потому что сами образованные таким способом понятия является концептами-химерами, или потому, что они «патологичны» – в его собственной терминологии? Первый свидетель чему, повторим, сам святой Августин.
«ПС [патологическое сознание] соединяет истинные и ложные понятия <…>. Процессы патологического сознания существуют как беспорядочные, эфемерные и вместе с тем стереотипные мыслительные ходы, “общие места”…» (Вершилло Р. Процессы патологического сознания).
Верно. Но совершенно верно, по заветам блж. Августину, это было бы, если бы это было самокритично. Т.е. если бы Роман Вершилло на склоне лет сподобился бы написать собственное идеологическое покаяние, наконец, узрев, что ярким примером «ПС» служит его собственная недохристианская философия, построенная как раз на смешении истин Священного Писания и светского (языческого, или ветхого) «гнозиса».
«Следует говорить о главном и простом, о том, что касается любого человека, о том, без чего нельзя быть христианином» (Вершилло Р. vk.com/antimodernism).
Но Христианство вовсе не касается всех и каждого. И достаточно заглянуть в Евангелие, чтобы в этом убедиться. «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам царство» (Лк 12:32). «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин 6:44). «Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» (Рим 8:9). А думать, что любой человек может и должен быть христианином, и означает мыслить не новозаветными категориями, но квазирелигиозными фантомами «естественного христианства».
«Разумное сознание предстоит пред Богом и ожидает от Него суда» (Вершилло Р. Устройство патологического сознания. Беспорядок в душе).
А христианское сознание («а мы имеем ум Христов» (1Кор 2:16)) пребывает в Боге («Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин 6:56)), и поэтому «на суд не приходит» (Ин 5:24). Что снова показывает, что проповедуемая Вершилло добродетель «разумного сознания» не является христианской, а значит, и вся повторенная на этой мифологеме философия. На подобных концептах-симулякрах (лишенных содержания понятиях) воздвигалась «саентологическая церковь» (т.е секта) Рона Хаббарда, в которую он конвертировал свою лженауку о «разумном сознании» («дианетику»). «И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф 7:27), потому что построено это было не на краеугольном камня Христа и Его благодати, но на гуманизме языческого толка, на априори бесплодной идеологии «естественного порядка в душе человека».
«Христианин не принимает компромиссов, потому что у него есть стыд и совесть» (Вершилло Р. vk.com/antimodernism).
Но стыд и совесть – это естественные добродетели ветхого человека. А у христианина как «новой твари во Христе» (2Кор 5:17) есть нечто, несравнимо большее, а именно, благодать Христова, этот единственный источник истинных добродетелей Христианства. Тогда как стыд и совесть это не что иное, как рефлексия греха. Прародители впервые познали стыд и совесть, преступив заповедь. Поэтому эти добродетели ветхого человека смешаны со грехом. И стыд, и совесть – это именно греховные добродетели, т.е. мнимые, которые не ведут даже к праведности, тем более – ко спасению. Добродетели язычников, по Августину, это «блестящие пороки». Поэтому Апостол говорит, что естественным законом, или (что то же самое) естественными добродетелями ветхого человека невозможно оправдаться (Рим 3:20). Потому что для этого нужно исполнить весь закон, ни нарушить не единой статьи в нем, исполнять каждую снова и снова. Что непосильно для падшего человека, которому нужно делать передышку для греха, для периодических нарушений закона... Чтобы тут же продемонстрировать свои «классические добродетели» стыда и совести. Благодать же Христова – это та сверхъестественная сила Бога, которой можно исполнить весь закон, соблюсти все заповеди, и делать это сколько угодно долго, всегда, ныне и присно и во веки веков. И вот ничего из этих истин апостольского Христианства Роман Вершилло не знает и не хочет знать. Потому что отвергает именно те труды Учителя Церкви, в которых он истолковал Апостола без компромиссов с ветхой лжеименной мудростью, т.е. отвергает их именно за их святую бескомпромиссность, ни оставившую места для языческого суемудрия с его ложными идеями и духовно выхолощенными понятиями. Потому эта псевдохристианская философия и не даёт никакой пищи уму, что она безблагодатна, потому что истину человеку может открыть только Тот, Кто Сам является Истиной (Ин 14:6). Как это произошло с блаженным Августином, от которого следует научиться каждому, кто претендует на подлинное христианское знание.
Вершилло же учился у языческих «мудрецов» и у Августина в тот период, когда он сам находился под их влиянием, в чем раскаялся и от чего отрекся. Вершилло же отверг это отречение Августина от ложной «мудрости» язычников и остался ей верен, чего даже не скрывает. Поэтому и его «здравое сознание» само является «патологическим» в той мере, в какой он следует этому первоисточнику «мудрости».
«Сократический метод был рассчитан на противодействие софистам (как и наш метод задуман как противодействие модернистам). Сократ не учил догматически, а только задавал вопросы так, чтобы в душе собеседников рождалась истина. Задавая вопросы, Сократ неизменно обнаруживал, что все люди знают одно и то же, самое существенное и основное: что Бог есть, что есть Высшее Благо, Благое Само по Себе. <…> Вот почему Сократ отрекался от того, что он занимается образованием, что он кого-то воспитывает. То, что является самым важным, невозможно внушить человеку. Но и не нужно внушать, потому что он уже его знает. Где-то здесь находится предел, положенный антимодернистскому методу» (Вершилло Р. vk.com/antimodernism).
И даже то, что Сократ, как и положено классику эллинизма, не брезговал сублимацией содомии, «рождению истины в душах» его собеседников нисколько не мешало. Вот образчик этого «сократического метода»:
«Сократ: Каждый выбирает среди красавцев возлюбленного себе по нраву и, словно это и есть Эрот, делает из него для себя кумира и украшает его, словно для священнодействий. Спутники Зевса ищут Зевсовой души в своем возлюбленном: они смотрят, склонен ли он по своей природе быть философом и вождем, и, когда найдут такого, влюбляются и делают все, чтобы он таким стал. <…> Они стремятся выследить и найти в самих себе природу своего бога и добиваются успеха, так как принуждены пристально в этого бога всматриваться. <…> Спутники Аполлона и любого из богов, идя по стопам своего бога, ищут юношу с такими же природными задатками, как у них самих, и, найдя его, убеждают его подражать их богу, как это делают они сами. Приучая любимца к стройности и порядку, они, насколько это кому по силам, подводят его к занятиям и к идее своего бога. Они не обнаруживают ни зависти, ни низкой вражды к своему любимцу, но всячески стараются сделать его похожим на самих себя и на бога, которого почитают» (Платон. Федр. 252с-253b / Платон. Собрание сочинений в 4-х т. М., «Мысль», 1993. Т.2. С.161-162).
Потому у Сократа и не было никакой догматической системы, что он был таким же софистом, как и его оппоненты, если не самым изощренным из них. Ведь что такое самый известный афоризм Сократа – «я знаю, что ничего не знаю», как не софизм античного Рона Хаббарда? По крайней мере, исходя из истин, открытых Священным Писанием, между Сократом и софистами совершенно точно нет никакой разницы в гносеологическом плане: и лучшим комментарием к приведенному фрагменту из «Федра» служат слова Апостола: «но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте» (Рим 1:21-24).
Таким образом, то, что Роман Вершилло считает «разумно упорядоченным» сознанием, в апостольском Христианстве само является частным случаем сознания «патологически беспорядочного», потому что в нем путем компромисса смешаны истины с ложью, добро со злом, божественная премудрость Писания с мнениями античных так называемых «знатоков». «Патологическое сознание», по Апостолу, это сознание ветхого человека, единосущного падшему Адаму, лишенному благодати и поэтому познающего всё (Бога, себя и мир) в искаженном виде. И поскольку Вершилло подчеркнуто стоит на позициях антропологии пелагианского толка, не различая природы ветхого и нового человека во Христе, он расценивает «порядок в душе человека», или «разумное сознание», как то, что естественно присуще каждому человеку. Поэтому этим сознанием «порядочного человека» у него обладают не только христиане, по сверхъестественной благодати имеющие «ум Христов» (1Кор 2:16), но и лучшие представители языческой философии, имеющие такой ум, что называется, «от природы», якобы не страдающей в этом отношении в первородном грехе. Что и означает, что Р. Вершилло считает «порядком в душе человека» («здравым сознанием») буквально то самое, что Апостол называет «безумием» ветхого человека (или «патологическое сознание» – в терминах Вершилло). Примером чего оказывается его собственные сочинения. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. <…> Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, — так как истина во Иисусе, — отложить прежний образ жизни ветхого человека, <…> а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф 4:17-25)).
Александр Буздалов

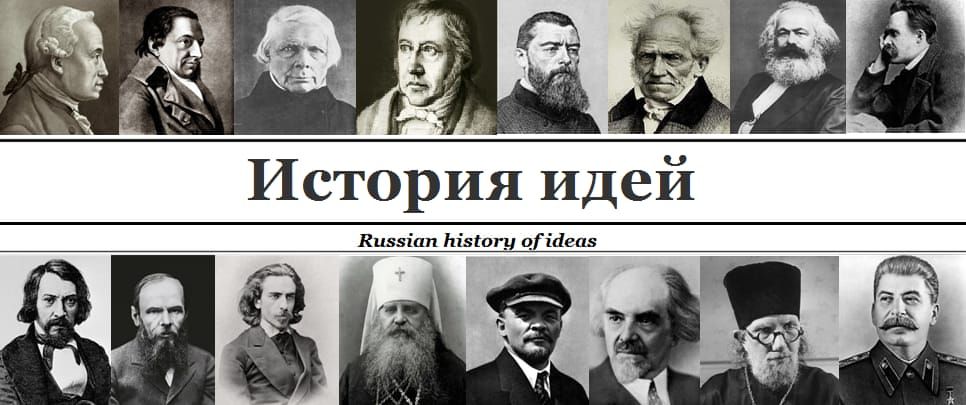




Комментарии
Буздалов А.
2024-12-08 09:45:08
Один из счастливых обладателей упорядоченного сознания пишет: "Где здесь здравая критика? Все косвенно. Изучал ли Буздалов последние творения блаженного Августина в оригинале? Нет, но пользовался переводами Фокина, которые вызывают сомнения. Некогда и я ссылался на переводы Фокина в диалоге с Романом Алексеевичем., но он меня вразумил, что не стоит им доверять и сейчас я увидел почему, хотя меня возмущало, когда публиковались статьи на Антимодернизме, в которых он ссылался на переводы Фокина. Благодарю Романа, что он упас меня от той пропасти в которую упал Буздалов" (Комментарий на странице Антимодернизма в Телеграмме по поводу этой публикации). Раньше товарищ и сам ссылался на переводы Фокина, потому что на них ссылался автор передовицы Вестника "Науки о здоровом сознании". Но главврач (или главред, в общем, старший товарищ) указал ему на этот левацкий уклон, и он тут же решительно осудил его как возмутительный и вредный Спасибо товарищу Рональду за наш порядок в душе и умственное здоровье!
Прот.Константин,Грузия.
2024-12-08 18:54:39
Здравствуйте Александр! Какие конкретные тома вы имеете ввиду? Что касается Р. Вершило , я и раньше писал, что желал по другому этот вопрос решать. Вопрос: Если Св. Отцы для систематизации богословия использовали философские системы . То в чем разница. Я беседовал с Романом. Он хорошо понимает..что философия это язычество.Согласен с вами , что этот подход утомляет, переходит больше в философию, нежели богословию.но может по философские мудрствующих пригоден именно этот подход. Лично мне не интересно.
Буздалов А. - Прот. Константину
2024-12-16 15:11:57
Здравствуйте, о. Константин. Имею в виду две книги "Пересмотров" (426 г.) и находящиеся в их контексте антипелагианские сочинения этого периода Августина. Фрагмент "Пересмотров", например, есть в "О предопределении святых". Концепция "пересмотров" - отречение от неоплатонизма. В этом смысле эта ревизия Августином своего прежнего богословия началась гораздо раньше. Т.е. это отречение именно от идей языческой философии, от ложной мудрости эллинов, по завету Апостола. Платонизм в дальнейшем был анафематствован и Вселенской Церковью. Поэтому это все гораздо серьезнее и печальнее, чем Вы сказали по великодушию ("но может по философские мудрствующих пригоден именно этот подход"). Религиозная ложь гностицизма не может быть пригодной ни для кого. Это нужно жечь напалмом. Чем мы тут, на "Истории идей", и занимаемся, по мере сил.