Ересь Евагрия в «Добротолюбии»
Дата создания:
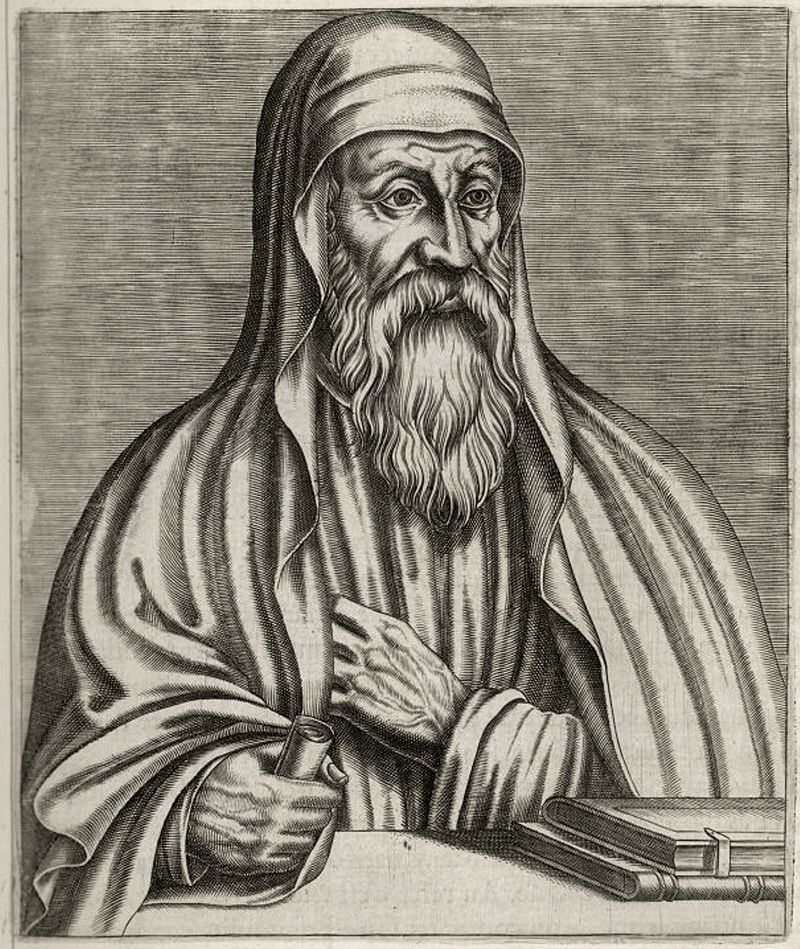
Портрет Оригена. Иллюстрация из «Les vrais pourtraits...» Андре Теве (1584)
Не резало ли вам когда-нибудь слух присутствие в святоотеческой литературе категории «достоинства» человека божественных благ, прочно вошедшей в обиход восточного (равно как и западного) богословия, прежде всего, благодаря представителям египетской богословско-аскетической школы и каппадокийцам, не всегда корректно пользовавшихся этим понятием? В одном только первом томе «Добротолюбия» идиома «сделаться достойным» (богообщения, благодати, вечной жизни с Богом) употребляется десятки раз.
«Ибо имея самовластие, мы можем, если захотим, не делать худых дел даже тогда, как вожделеем их; в нашей также власти есть жить благоугодно Богу и никто нас не принудит никогда сделать что-либо худое, если не хотим. Так подвизаясь, мы будем людьми Бога достойными, живя как Ангелы на небе» (Наставления святого Антония Великого. 2:66 / Добротолюбие. В 5 т. Пер. с греч. святителя Феофана Затворника. Изд. 4-е. М., изд-во Сретенского монастыря, 2010. Т. 1. С.70-71).
Правда? А это точно Антоний Великий, а не бравый авва Евагрий, например? А то на IIIВС буквально за это же самое осудили Целестия, Юлиана Экланского и иже с ними пелагиан. Но поскольку это попало в «Добротолюбие», уже неважно, кто является автором этого текста, потому что, не будучи вовремя опознано как лжеучение, это было усвоено общецерковным сознанием как ортодоксальное воззрение. Ложь смешалась с истиной, мимикрируя и паразитируя на ней.
«…и все прочее равно Отцом и Сыном и Духом Святым действуется в достойных: всякая благодать и сила, <…> [которых] каждый приобщается пользы по собственному своему достоинству и по мере нужды» (свт. Василий Великий. Письмо 189 (181). К Евстафию, первому врачу / свт. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения в двух томах. М., «Сибирская благозвонница», 2008-2009. Т.2. С.715).
Критерием неверного богословского толкования понятия «достоинства» служит евангельский фрагмент, где оно используется иудейскими старейшинами, т.е. фарисеями. «И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошёл с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой; потому и себя самого не почёл я достойным придти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. <…>. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашёл Я такой веры» (Лк 7:4-9). Не трудно заметить, что концепции «достоинства» старейшин и Христа не просто существенно отличаются, но противоположны друг другу. Иудеи говорят: язычник достоин милости Божией, потому что делает много добра; а Господь отвечает им: он достоин Его милости, напротив, не потому что делает что-то, но только потому, что сам считает себя недостойным этого, но верует в Его милосердие. И дело здесь отнюдь не в одном только смирении, на которое Всевышний как бы «ведется» и столь высоко его оценивает, питая к нему «слабость». Суть в том, что милости вообще нельзя быть достойным, ибо одно исключает другое. Если кто-то достоин чего-то, то ему вручают это как заслуженную награду, воздавая должное. А если кого-то милуют, то его милуют именно потому, что он недостоин помилования, но его все равно прощают, т.е. исключительно по великодушию Судящего, а не по заслугам судимого. «…пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф 9:13). Поэтому милость за исповедание себя недостойным тоже была бы воздаянием должного, или увенчанием достойного лавровым венком победителя (за добродетель смирения, в частности). Евангелие же говорит о таком недостоинстве грешника милости Божией, которое является таковым объективно и безусловно, а не обусловлено чем-то в самом человеке, т.е. о таком недостоинстве, которого он сам не в силах преодолеть, чтобы получить оправдание, поэтому и нуждается в милости. В таком случае все условия милости, о которых Евангелие говорит в других местах, или все фрагменты, которые, казалось бы, подтверждают концепцию достоинства как воздаяния должного, или заслуженного награждения, на самом деле, означают, что само это достояние ранее получено недостойным путем той же безусловной милости Божией к нему, т.е. тоже даром, а не по бартеру (в обмен на что-то другое ценное). «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф 2:10). «Но если по благодати» [исполняем предназначенное нам по милости], «то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (Рим 11:6). Следовательно, когда богословие говорит о каком-либо достоинстве как заслуге человека милости Божией, в нем самом говорит еще не до конца изжитое религиозное сознание ветхого человека, языческое или фарисейское «мудрование».
«…стань издалеча, по достоинству своего очищения: кто принадлежит к народу и к числу недостойных такой высоты и созерцания [вступить внутрь облака и беседовать с Богом], тот, если он нечист, вовсе не приступай (потому что это небезопасно), а если очищен на время, останься внизу, и внимай одному гласу и трубе, то есть голым речениям благочестия» (св. Григорий Богослов. Слово 28-е, о богословии второе / Собрание творений в 2-х т. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. Т. 1. С. 392).
А кто, значит, окинул внутренним взором степень своего очищения и нашел себя уже вполне достойным, тот смело восходи на Синай вместе с Моисеем... Получается, что так. Поэтому смущаться этой «рефлексией достоинства» в патристике христианину отнюдь не следует, потому что это нормальная для него реакция на нехристианское учение. Даже если оно проходит рефреном через все «Добротолюбие». О чем красноречиво повествует другая евангельская притча – о «забронированных» на божественном пире местах. «…когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк 14:10-11). А что значит богословское учение о том, что благодать подается по достоинству и заслугам, как не самопревозношение (пусть и неосознанное) либо – наставление в самомнении других (что еще хуже)?
На понятии «достоинства высшего», между тем, построена православно-оригеническая концепция «синергии» человеческой воли и божественной благодати, где достоинство – это естественные добродетели, которых человек достигает собственными трудами и заслугами. Синергия спасения – это соединение как раз персональных достоинств человеческого субъекта с «помощью» божественной благодати, что позволяет «достойному» естественно (или, как говорится, «органично») подняться еще выше по лестнице Иакова, а именно, на Синай богообщения, или на Фавор боговидения.
«Создатель определяет каждому существу различную должность служения на основании предшествующих причин, по достоинству заслуг, на основании того, конечно, что каждый ум или разумный дух, сотворенный Богом, сообразно с движениями ума и душевными чувствами, приобрел себе большую или меньшую заслугу и сделался или любезным или ненавистным Богу» (Ориген. О Началах. Кн.1, гл.9:7 / Творения Оригена, учителя александрийского, в русском переводе. Выпуск 1. О Началах. Издание Казанской Духовной Академии, 1899. С. 23)
Но чем, спрашивается, Петр, Иаков и Иоанн были достойнее других апостолов, стать тайнозрителями Преображения Господа? Разве не силен Он был с таким же успехом и на тех же самых основаниях избрать для этого любых других из них, чтобы открыть им очи узреть Свою нетварную Славу? Разве могут быть в самом человеке вообще какие-либо духовно-нравственные предпосылки для того, чтобы получить какие-то преимущества в этом плане перед другими? «Ангела увидела ослица, по воле Божией, точно так же, как увидел его Валаам: чрез отверзение очей всемогуществом Божиим (Числ 22:32-33)» (свт. Игнатий (Брянчанинов). Прибавление к Слову о смерти / свт. Игнатий (Брянчанинов). Слово о смерти. М., «Отчий дом», 2010. С.318-319). Если даже между животным и человеком не было никакой разницы в плане способности видеть Ангела Божия, то тем более не могло быть никакой разницы между апостолами в плане большей или меньшей персональной готовности к тому, чтобы видеть Бога. Потому что божественное избрание человека совершается не потому, что он достоин этого, но для того, чтобы он стал достоин, а значит, то, что совершается самовластием благодати, волюнтаризм пелагианства и оригенизма приписывает самовластию воли. Никакие личные добродетели ветхого человека сами по себе не имеют никакого значения для избрания его для божественных благ, ибо это несопоставимо. Поэтому избрание Милующего, как говорит Апостол, происходит вообще до того, как человек родился, а не то, что сделал ли он что-нибудь подобающее для этого. Потому что всё то, что он сделает для этого, как было сказано, тоже будет даровано ему, по безусловности его избрания «прежде создания мира» (Еф 1:4). «Ибо [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим 9:15-16).
Иначе рассуждает православно-оригеническая концепция достоинства человека высших благ со стороны их Подателя, демонстрируя, тем самым, свое остаточное язычество.
«Например: кто вожделевательную силу души употребил на услаждение плотскими и нечистыми удовольствиями, тот гнусен и невоздержен; но кто обратил ее на любовь к Богу и желание вечных благ, тот достоин подражания и блажен. И опять, кто хорошо владеет судительною силою, тот благоразумен и смышлен; а кто изострил ум ко вреду ближнего, тот лукавец и злодей. Поэтому что Творец дал нам ко спасению, того не будем обращать для себя в повод ко греху!» (свт. Василий Великий. Беседа 10-я / Творения в двух томах. Цит. изд. Т.1. С.658).
Мы видим здесь, что архиепископ Кесарии Каппадокийской в своем рассуждении исходит из того, что все необходимое для спасения Творец даровал природным силам души, которые в достаточной для этого мере сохраняются и после грехопадения прародителя человеческого рода. Поэтому «достойным блаженства» оказывается тот, кто не только сумел обратить на вечные блага отвечающую за желания «группу мышц» своей души («силу вожделения»), но кто развил их духовными упражнениями настолько, что смог возлюбить Бога усилием воли... И поэтому такая теория достоинства спасения объективно (с точки зрения сравнительного богословия как объективной науки) оказывается одного типа с теорией иудейских старейшин, сенсеев эллинской диалектики, пелагиан и других представителей религиозного гуманизма. Либо – эта каппадокийская теория, как минимум, является теорией смешанного (христианско-эллинистического) типа, потому что в других местах тот же Василий Великий, слава Богу, исповедует все-таки уже традиционную евангельскую ценность абсолютного недостоинства спасения для ветхого человека: «Истреби в себе две мысли: не признавай себя достойным чего–либо великого, и не думай, чтобы другой какой человек был многим ниже тебя по достоинству» (Беседа 10-я. Цит. изд. Т.1. С.657), хотя он и не замечает того, что его первая теория (сотериологического достоинства, основанная на антропологии иудео-эллинистического типа) и евангельское учение о тотальном недостоинстве человека благодати Царствия Небесного (и поэтому спасении его исключительно милостью Божией) отрицают друг друга. Как, опять же, это и должно быть, согласно учению Апостола, «потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим 8:7), а языческая философия, как и каббалистическая «мудрость» фарисеев, – это не что иное, как «плотские мудрования» на религиозную тему.
«Бог создал невидимый мир и видимый; и душу и тело также Он сотворил. И если мир видимый столь прекрасен, то каков же невидимый? Если же тот лучше этого, то сколь превыше их обоих создавший их Бог? Если теперь Творец всех доброт лучше всего сотворенного; то по какой причине ум, оставив лучшее всего, занимается всего худшим, то есть, плотскими страстями? Не явно ли оттого, что к этому привык, от рождения обращаясь с ним, а того, что лучше и выше всего, совсем еще не испытал? Таким образом, если долговременным воздержанием от чувственных удовольствий и поучением в Божественном, мало–помалу мы отторгнем его от такой привычки; то он, понемногу преуспевая в сем, расположится к Божественному и собственное свое познает достоинство, а, наконец, и всю приверженность свою перенесет к Богу» (преп. Максим Исповедник. Главы о любви. 3:72 / Избранные творения преподобного Максима Исповедника. М., «Паломник», 2004. С.180-181)
Характерно, что в приведенном фрагменте Преподобный не только богословствует в оригеническом духе, но даже пользуется концепцией греха как дурной привычки (преодолеваемой духовными усилиями воли) из арсенала Пелагия. Что закономерно и приводит все это рассуждение к ложному (неоязыческому) умозаключению о человеческом «достоинстве Бога».
«Молящийся о том, чтобы получить хлеб насущный, полностью и целиком не воспринимает этот хлеб таковым, каков он есть на самом деле, но лишь таковым, каковым он может воспринять его. Хлеб Жизни (Ин. 6:35), как Человеколюбец, дает Себя [в пищу] всем, но не всем одинаково. Свершившим великие деяния праведности [Он дает Себя] обильно, а [свершившим деяния] меньшие — в меньшей степени; каждому же — настолько, насколько позволяет принять [этот Хлеб] его духовное достоинство» (преп. Максим Исповедник. Главы о богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия. 2:56 / Избранные творения преподобного Максима Исповедника. М., «Паломник», 2004. С.328).
Но разве не сам же Раздаятель Себя просящим и создает в них все эти «достоинства», и подавая им «великие деяния», и даруя им саму способность воспринять Свою благодать, совершенно сверхъестественную для их собственной природы, как, опять же, сам Максим свидетельствует об этом в других местах своего богословия, когда «приходит в разум истины»? Поэтому и богословие канонического молитвословия Православной Церкви построено на противоположном (или чисто евангельском) понятии «недостоинства» просящего сего Хлеба Жизни. «Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, Твоего́ Пречи́стаго Те́ла и Боже́ственныя Кро́ве недосто́ин есмь, Христе́, причаще́ния, его́же мя сподо́би»; «Хле́ба живо́тнаго Tрапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти»; «Ве́м, Го́споди, я́ко недосто́йне причаща́юся пречи́стаго Твоего́ Те́ла и честны́я Твоея́ Кро́ве, и пови́нен е́смь <…> Умилосе́рдися у́бо, Го́споди, и не обличи́ мя́ гре́шнаго, но сотвори́ со мно́ю по ми́лости Твое́й»; «Во све́тлостех Святы́х Твои́х ка́ко вни́ду недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя́ облича́ет, я́ко не́сть бра́чна, и свя́зан изве́ржен бу́ду от А́нгелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя́, я́ко Человеколю́бец» (Последование ко святому Причащения / Православный молитвослов). И то, что многие из этих святых молитв принадлежат тем же самым авторам, которые в своей богословской доктрине зачастую рассуждали о «достоинстве» с противоположных оснований суемудрого гуманизма, говорит о том, что такая теория заимствованы ими из какого-то другого источника, т.е. отнюдь не из Священного Писания (либо эти сочинения вообще принадлежат кому-то другому, потому что прецедентов подложного авторства или ложной идентификации патристической литературы тоже достаточно).
Первоисточником этого лжехристианского концепта «достоинства божественного», как не трудно догадаться, оказывается религиозная философия поздней античности, на которой многие представители патристики, происходившие из знатных семей, росли и пережитки которой приносили затем в свое богословие. Откуда оно уже передавалось другим авторам как православная традиция, включая тех, кто сам никогда никакой философии не читал.
«Как только вкусили они все прелести такого самобытия, тотчас же дали полную волю своим прихотливым желаниям, и став, таким образом, на путь, противоположный своей изначальной сущности, постепенно отдалились от Бога до степени полного забвения того, что они и творения Его, и Его достояние. Как дети, которые сразу после рождения были отделены от родителей, вскормленные и выросшие на чужбине, и родителей потом не узнают, и себя не признают их детьми, так и души, живя долгое время без созерцания Бога и без осознания своего к Нему отношения, теряют, забывая о своем происхождении, прирожденное достоинство, прельщаются внешним, считая его более ценным, чем самих себя, отдавая ему уважение, любовь и все лучшие чувства, все более и более порывая связь со всем высшим, божественным, отдаляясь от него и отвращаясь с пренебрежением» (Плотин. Эннеады. Киев, «УЦИММ-ПРЕСС», 1995. Т.1. С.123).
Одно дело, когда «трудящийся достоин пропитания» (Мф 10:9), ибо это вещи одного субстанционального плана. И другое дело, когда Бог
«по великой и невыразимой любви, в неприступной славе света является достойным, соразмерно с силами каждого» (преп. Макарий Великий. Беседа 4:13 / Преподобного отца нашего Макария Египетского духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением сведений о жизни его и писаниях. – Изд. 3-е. М., тип. М.Н. Лаврова и К°, 1880. С.39),
потому что одновременно утверждается «бесконечное отличие и превосходство» нетварного естества над тварным, что означает, что никакое естественное развитие сил второго, «нравственное усовершенствование» и т.д. не может сделать его достойным первого как Неприступного для него, и поэтому явление Бога происходит исключительно по Его невыразимой любви, а не по достигнутому состоянию «достоинства» того, кому Он является (поэтому даже то условное «достоинство», которым разумные тварные создания отличаются между собой, возникает путем предопределенного избрание, потому что Сам же Избирающий и производит это достоинство в избранных из числа недостойных). В то время как в пневматологическом монизме неоплатонизма такое достоинство было обусловлено как раз субстанциональным подобием Духа и души, потому что вторая происходила из первого путем эманации, поэтому здесь в учении о достоинстве человеческой души божественного Духа не было того внутреннего противоречия, которое есть в патристике, когда оно опрометчиво использует это сугубо пантеистическое понятие для толкования Священного Писания.
«В самом деле, как ни высоко признанное нами ранее достоинство Души, она не более, чем образ Духа. Подобно тому, как слово, выговариваемое вслух, являет собой образ внутреннего слова души, так и сама Душа есть выговоренное слово Духа или его осуществленная вовне энергия; она — жизнь, истекшая из него и образовавшая новую после него субстанцию, подобно тому, как огонь обладает помимо той латентной теплоты, которая всегда ему присуща, еще и теплотой, излучаемой вовне» (Плотин. Эннеады. Цит. изд. Т.1. С.126).
«…в нас есть два рода чувств, один род чувств – смертный, тленный, человеческий; другой род – бессмертный и духовный, – это тот, который он [Соломон] назвал божественным. Этим-то божественным чувством – не очей, но чистого сердца, т.е. ума – и могут видеть Бога все те, которые достойны (Его)» (Ориген. О Началах. Кн.1, гл.1:9. Цит. изд. С. 22).
Если осуждение грешника в Христианстве, действительно, является воздаянием должного, или происходит по принципу справедливой оценки достоинства, потому что это достоинство со знаком минус («и мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли» (Лк 23:21); оправдание другого грешника происходит здесь отнюдь не его достоинству (ибо оно аналогично преступному «достоянию» первого), но вопреки ему, «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех» (Рим 3:20), «ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим 6:23). В то время как в неоплатонической парадигме, так же как в иудейской, то и другое происходит по заслугам, или по закону природы, потому что душа здесь обладает врожденным достоинством божественного, которое может только повреждаться в ней (деградировать и умаляться), но, по этой же причине, будучи имманентным, или потенциальным, способно к естественной регенерации, или восстановлению.
«Но полагая праведность основанием всех достоинств, не станем ли мы утверждать, что праведность не может реализоваться без наличия самой разнообразной множественности? Нет, ибо есть праведность множественности, и есть основа самой праведности, не нуждающаяся ни в чем. Эйдетическая само-праведность есть творческий акт Духа, направленный на самого себя, а потому и неизменно пребывающий в нераздельном и неслиянном единстве. Высшая же праведность Души — это ее энергия, направленная на Дух; нравственное разумение — ее внутренняя устремленность к Духу; стойкость — бесстрастное уподобление высшему, которое она созерцает — бесстрастное, ибо высшее бесстрастно по природе, Душа же становится таковой благодаря своим добродетелям» (Плотин. Эннеады. Цит. изд. Т.2. С.25).
«Есть также иная благодать и у Святого Духа, – такая благодать, которая подается (от Него) достойным, устрояется при посредстве Христа, а производится (inoperatur) Отцом, смотря по заслугам всех тех, которые делаются способными к ее восприятию» (Ориген. О Началах. Кн.1, гл.3:7. Цит. изд. С.50).
Таким образом, можно считать доказанным, что именно через злочестивого Оригена опосредованно через Евагрия и других его последователей неоплатонический концепт «сделаться достойным» (божественной благодати по собственным заслугам) проникает сначала в богословие отдельных школ, а затем становится «достоянием» всего православного Востока.
Спрашивается, почему же тогда, даже несмотря на такие остаточные кичения ветхого разума, представители этой богословской традиции все равно достигали преподобия и подлинной святости? – Именно потому, что Господь делает достойных из недостойных, смиренных из надменных, мудрых из глуповатых и т.д., удостаивая грешника стать святым вопреки его греховности, а не благодаря его заслугам, потому что сами эти заслуги (или, собственно, достоинства) были дарованы ему таким образом, что по немощи своей ветхой натуры он, конечно же, мнил их заслуженными приобретениями своих персональных добродетелей. Иными словами, те духовные достоинства, которые становятся условием спасения избранных, существуют как атрибуты обожения, а не как приношение самой разумной твари. Это нетварные дары Бога человеку, а не тварные дары человека – Богу. Потому что ничто не может быть поистине достойным Бога, кроме Его собственной благодати, явленной в новом человеке. Как фаворский свет в Богочеловеке – это сияние Его Божества, и как видимый, по благодати, свет Его святых – это свечение Его благодати в них, так и христианские добродетели достоинства Царствия Небесного в избранных – это благодатные дары Святого Духа и ничего больше. «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом» (1Кор 1:26-31).
Александр Буздалов

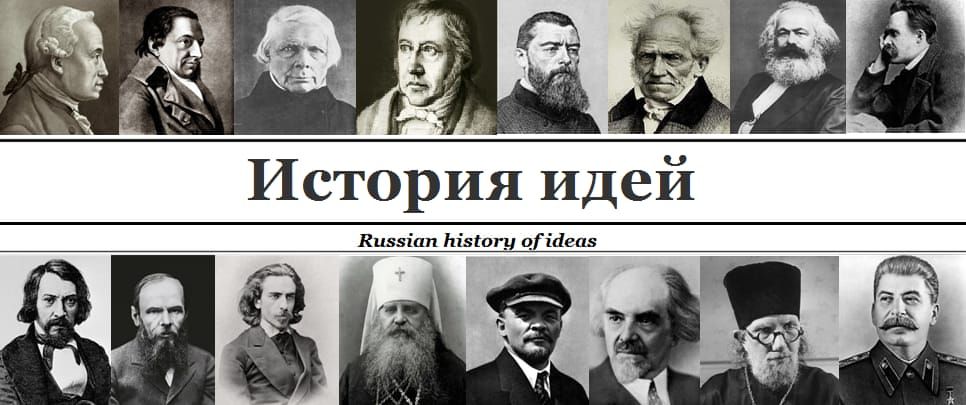




Комментарии
Буздалов А.
2024-12-16 15:21:51
«Осуждение личности и ошибочных взглядов Евагрия Вселенскими Соборами радикальным образом повлияло на посмертную судьбу его сочинений, большая часть которых либо подверглась уничтожению, либо сохранилась под именами других авторов. Однако, несмотря на то что авторитет Евагрия как богослова сильно упал, влияние его аскетического и мистического богословия на христианском Востоке и Западе оставалось значительным» (Азбука.ру. Евагрий Понтийский). Настолько значительным, что не побоялись даже выдавать сочинения еретика, осужденного тремя ВС, за труды преподобных. Причем примером омерзительной махинации такого рода служит сама использованная в данной православной энциклопедии формула: «либо подверглась уничтожению, либо сохранилась под именами других авторов». Это и есть знаменитый «царский путь между двумя крайностями» во всей своей византийской красе: «среднее» между крайностью уничтожения и крайностью сохранения это как раз подлог автора в оглавлении. Как же я ненавижу эту ложь!
Прот.Константин,Грузия.
2024-12-21 01:59:04
Александр здравствуйте! Интересно, есть ли вещественные доказательства этих сравнений как авторство одного ( Оригена или Евагрия) или это просто влияние идей Оригена? Ещё одна тема, до конца никак не разобрался с учением блж. Августина о Троице. Понятно, что исхождение и от Сына филиокве.Читается ли в какой-то степен православный смысл?
Буздалов А. - Прот. Константину
2024-12-21 18:27:08
Здравствуйте, о. Константин. Если считать вещественными доказательствами серьезные филологические исследования, устанавливающие авторство текстов неизвестного или сомнительного происхождения на основе сравнительного текстологического и идеологического анализа, то да, такие доказательства есть, и среди серьезных патрологов давно общепризнано, что «в силу ряда обстоятельств отдельные произведений Евагрия были известны под именами таких отцов Церкви, как преп. Нил Синайский (точнее - преп. Нил Анкирский), св. Василий Великий и преп. Максим Исповедник» (Сидоров А.И. Евагрий Понтийский: жизнь, литературная деятельность и место в истории христианского богословия). Для простаков же никаких доказательств не существует. У них если исторически это считалось трудами святых отцов, значит, так оно и есть, ибо «консенсус» так жестоко обмануться не мог. А патрологи… это просто агенты дьявола. И поэтому, как было уже отмечено, уже неважно, кто автор этих сочинений. Это веками читалось как исповедание истинного православия и поэтому смешалось с ним в единое "средне-арифметическое", "царски" диалектическое. Тот же свт. Феофан переводил подложные тексты Евагрия в «Добротолюбии» как объективный критерий христианской истины. И соответственно сам богословствовал в том же отчасти античном духе. На второй вопрос ответ тоже утвердительный: православный смысл филиокве – исхождение не ипостаси Св. Духа (это, конечно, только от Отца), но проявление Св. Духа для человека, т.е. действие Его благодати, которое является общим для Св.Троицы, а значит, принадлежит и Сыну. Причем у Августина филиокве это тоже один из пережитков его раннего неоплатонизма. И православные его за это, конечно, осуждают с упоением самодовольства. А сучков неоплатонизма (остаточных идей оригенизма и пелагианства) у себя в глазу, как водится, в упор не видят. Августин свой неоплатонизм хотя бы начал выкорчевывать. А эти так с эллинистическим гуманизмом головного мозга и остались
Прот.Константин,Грузия.
2024-12-21 18:46:08
Спасибо Александр, беспокою своими вопросами. У нас тут тоже затяжная полемика с модернистами. Начал Арх. Рафаил Карелин, Арх. Лазарь Абашидзе, а мы продолжаем. Арх. Лазарь почил, Арх. Рфаилу уже 93 в изнеможении, вот и приходится искать ответы в ортодоксальных кругах по всему свету.Бог в помощь!
иерей Георгий
2024-12-23 22:27:04
//У нас тут тоже затяжная полемика с модернистами. Начал Арх. Рафаил Карелин,// ------ 1. При всём уважении к архим. Рафаилу и его борьбе с модернизмом не могу не указать на такую, например, странность в его речах: «Некрещеные младенцы находятся ни в свете, ни во тьме, ни в блаженстве, ни в муках. Их состояние похоже на тихие сумерки после заката солнца, пока еще не наступила ночь. Некоторые богословы символически изображали ад в виде концентрических кругов. Центр ада — это место, где находится сатана, где стоит престол Люцифера: чем ближе к центру, тем тяжелее муки, чем дальше от него, тем большее облегчение получает душа. На внешнем кругу ада находятся некрещеные младенцы и лучшие из язычников. Туда не проникает геенский огонь, они не испытывают страданий, но там нет Бога». https://azbyka.ru/zdorovie/kak-vernut-v-semyu-poteryannuyu-radost#n42 ------ 2. Не могли бы Вы, уважаемый отец Константин, узнать у старца, где находится место, где нет Бога? Только ли некрещённые и абортированные младенцы туда попадают? Или есть возможность некоторым взрослым там оказаться? ------ 3. Ещё хочу сказать, что в целом сочинение «Как вернуть в семью потерянную радость» произвело на меня положительное впечатление. Написано ярко и умело. В книге есть такие близкие мне слова. Архим. Рафаил: «Христианская антропология во многом не совпадает с бытующей у нас психологией, основанной на материалистических представлениях о мире и человеке. Огромный опыт христианских подвижников, наблюдавших за своими душевными проявлениями и процессами развития чувств и страстей, современная психология игнорирует. Главное различие между христианской антропологией и современной психологией заключается в том, что психология проходит мимо такого колоссального явления, как грех, который постоянно проявляется в душевной жизни человека, и зачастую формирует его поведение, привычки и наклонности. Из области онтологии приверженцы и последователи современной психологии переводят грех в область социологии и педагогики, то есть РАССМАТРИВАЮТ ГРЕХ НЕ КАК ВРОЖДЕННОЕ, НО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК ПРИОБРЕТЕННОЕ СВОЙСТВО, СЧИТАЯ ВРОЖДЕННЫЕ СИЛЫ И СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ЗДОРОВЫМИ И НОРМАЛЬНЫМИ (выделено мной. ― Г.С.). Замалчивание и игнорирование аномалий психической жизни ребенка, создало ложные педагогические концепции как в античные времена, так и в наши дни. Наиболее известным представителем такого «биологического оптимизма» был психолог Фромм. Надежды на одни только социальные и воспитательные реформы породили и порождают различные утопии, в том числе и идею коммунистического общества, которое должно было держаться на высоком общественном сознании каждого, а на практике эту идею с самого же начала пришлось удерживать на штыках, но и она рухнула. (Точно! ― Г.С.) Учение о первородном грехе открывает нам в новом свете клиническую картину душевных болезней человека, их следует лечить (только! ― Г.С.) через включение в жизнь Церкви». ------ 4. Разделаю эти слова архим.Рафаила и нахожу их проникновенными, в том смысле, что они проникновенно указывают на причину появления в православном богословии таких статей, аннулирующих первородный грех как врождённое состояние человека, как статья игумена Пашина и Елимова «Первородное повреждение в православном богословии». https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/1689/1475 Эта причина ― внедрение психологии в православную антропологию.
Прот.Константин,Грузия.
2024-12-24 03:53:57
На данный момент с отцом Рафаилом только короткий телефонный разговор, и то не перегружая его богословскими вопросами. Но мы неоднократно разбирали с ним эту тему при полемике с Осиповым и другими модернистами. В аде разные страдания, не видеть Бога тоже страдание. Нерешённые младенцы тоже в аду, форма, тип мучения подразумевает в себе не быть с богом. У о. Рафаил я это не среднее место между раем и адом, а именно ад, только не мучится из за личные грехи, только за первородный грех.
иерей Георгий
2024-12-25 23:05:20
Благодарю Вас, отец Константин, за ответ. Не имею намерения «катить бочку» на старца Рафаила. Просто хотел прояснить неясные его высказывания. Например, это, взятое из книги архим. Рафаила, названной в предыдущем комменте: «Для христианина убийство младенцев открывается не только как нравственное падение и деградация человека, но как страшная духовная бездна. В Библии сказано: «Не убей». Эта заповедь — непременное условие союза человека с Богом. При нарушении заповеди союз расторгается самим человеком: ОН ОСТАЕТСЯ БЕЗ БОГА (выделено мной. ― Г.С.). Убийство младенца — это не только убийство его тела, но и убийство его души. Душа переходит в вечность, не просвещённая таинством крещения, под печатью прародительских грехов. Она рождается в вечность как бы слепая». ----- Г.С.: Думаю, что выделенное мною ― не удачное выражение отца Рафаила. Душа нигде и никогда не может остаться без Бога, хотя бы потому, что Имже (Господом Исусом Христом) вся быша, как говорится в Символе нашей веры. А ещё потому, что, если верить пророку Давиду, то во всём мироздании нет места, где нет Бога: Камо пойду от Духа Твоего; и от лица Твоего камо бежу? Аще взыду на Небо, Ты тамо еси. Аще сниду во ад, тамо еси (Пс. 138: 7, 8). ----- Г.С.: Душа не останется без Бога даже во аде. В аде ей открывается другая сторона Бога. Та, которая открылась богачу в Евангельском рассказе о Лазаре. ------ Архим. Рафаил: «Женщина, которая убивает во чреве своего ребенка, делает его навеки слепым. Убитый ребенок не может воспринять света Святой Троицы, он не может видеть лица Христа Спасителя, он находится не в физической, а в гораздо более страшной — духовной темноте. /…/ Некрещеные младенцы получат некоторое утешение от Бога, но не будут видеть Его лица». Г.С.: Можно согласиться с этими словами старца, потому «духовная темнота» это и есть «тьма кромешная» (Мф. 8:12). Но ад это также и огонь. Как же может быть огонь без света? Преп. Варсонофий Оптинский: Долго я не понимал слов псалма: Глас Господа, пресецающего пламень огня (Пс. 28:7), и уже в монастыре я подумал так: на земле мы имеем огонь, пламень которого имеет и жар, и свет. Но между адом и раем огонь разделяется так: свет находится в раю и веселит праведников, а жар без всякого света жжёт грешников в аду, ибо пишется, что бездна адского пламени находится во тьме, и даже грешник не может видеть никого другого... Господи, спаси и помилуй. Чем хочешь накажи, Господи, здесь, только помилуй там. (Дневник послушника Николая Беляева). ------ Г.С.: Но возникает вопрос. Как богач мог увидеть Авраама и Лазаря, находясь во тьме кромешной?
Ясен - иерей Георгий
2025-01-04 05:59:23
,,Г.С.: Но возникает вопрос. Как богач мог увидеть Авраама и Лазаря, находясь во тьме кромешной?“ Привет. С Новым Годом. Богач мог видеть Авраама не из-за присутствия света в аду, где находятся грешники, а потому, что в то время праведники все еще находились в аду, но отдельно от грешники. Праведники были на Лоне Авраамовом (Луки 16:22). Они были выведены из ада Господом Иисусом Христом во время Его сошествия во ад после Его смерти и перед Его Воскресением. Святой Серафим Соболев (Софийский) говорит о свете для праведников, когда они еще находятся в аду.----- ,,Исаия говорит словами Христа, а Христос, пришедши на землю, говорил часто словами пророка Исаии. И несмотря на это после смерти Исаия попал в ад и был там до сошествия Спасителя в преисподнюю. Но муки он не испытывал. И блаженства не испытывал, так как не было в аду света Божиего. А может быть Господь и показывал на время свет праведным, находящимся в аду, – по Своему промышлению. Но все же праведники, хотя и не испытывали мук, томились в ожидании Христа. (А.А. Кострюков, ,,Пламень огненный . Жизнь и наследие архиепископа Серафима (Соболева).“, Мысли архиепископа Серафима, записанные, духовными чадами. (https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sobolev/plamen-ognennyj-zhizn-i-nasledie-arhiepiskopa-serafima-soboleva/3_2)). _____ ,,Чудное видение Григория, ученика преподобного Василия Нового о Страшном Суде Христовом ----- … О младенцах, не просвещенных Святым Крещением ----- И после этих отделил Господь от левых тех, которые были слепы, но ходили по мановению Божию. На них не было никакого зла, но они не были между праведниками. Посмотрел Господь на них и не разгневался, но разгневался на их родителей за то, что не просветили их Святым Крещением. И велел Господь дать им покойное место на западе и часть наслаждений вечной жизни, так чтобы они не видели лица Господня. Они сказали: "Владыко, Господи, благословен Ты, и благ, и милосерд, потому что Господь жизни и смерти лишил нас временной жизни по известным Тебе причинам, но одного у Тебя просим: помилуй нас, Господи!" И Господь даровал им малое утешение. Это был лик христианских младенцев, не принявших Святого Крещения. Все они были одинакового возраста. (https://www.pravoslavnaya-biblioteka.ru/biblioteka/articles/chudnoe-videnie-grigoriya-uchenika-prepodobnogo-vasiliya-novogo-o-strashnom-sude-khristovom.html).