Происхождение и природа души. Часть 4. «Всем Он Творец, но не всем Отец»
Дата создания:
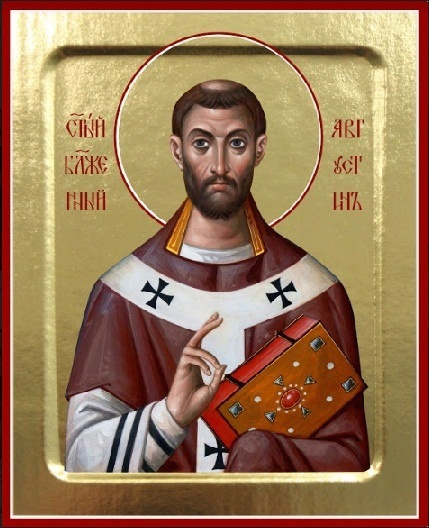
Итак, как мы выяснили, концепция «пересмотров» блж. Августином своих воззрений и сочинений, написанных до полемики с пелагианством, заключалась в отречении от того влияния неоплатонизма и позднеантичной культуры эллинизма вообще, на котором воспитывалось большинство представителей патристики той эпохи из числа тех, кто имел светское образование. Это касается как представителей Западной, так и Восточной частей Римско-византийской империи и Вселенской Церкви. Несомненную истину этой богословской «исповеди» Августина в дальнейшем подтвердили Пятый Вселенский собор 553 г. и Константинопольский собор 1351 г., на которых доктрина платонизма была осуждена как одна из архетипических ересей. Соответственно, богословие всех представителей патристики IV-VI вв. (равно как и последующих), которые не сделали того же самого, что сделал Августин, как минимум, несовершенно и нуждается в критическом переосмыслении и переоценке. Т.е. необходима церковная научно-богословская экспертиза этой литературы на наличие ложных идей неоплатонизма, стоицизма или перипатетизма и их отверждение как квази- или антихристианских по духу и по мысли. А не вавилонское смешение всей этой «лжеименной мудрости» (1Кор 1:19-25; 1Тим 6:20) с богооткровенными истинами Священного Писания, как это произошло в исторически утвердившейся в Церкви (вопреки догматически-фундаментальным соборным определениям) полупелагианской концепции синергии как «царского пути» между «крайностями» апостольской истины и ложью Плотина и других учителей от плоти.
«Блаженный Августин и Пелагий, взявшиеся за эти вопросы с двух противоположных концов и в решении их удалившиеся друг от друга в две противоположные стороны, представляли собою во многих точках две противоположности по образу воспитания, жизненной судьбе и характеру. Но, если сравним в этом отношении с обоими ими Оригена, то окажется, что он не имел крайностей ни того ни другого, или вернее, что в нём гармонически соединялись крайности их обоих» (Догматическая систем Оригена [магистерское сочинение студента Академии, кончившего курс в 1869 г. священника Григория Малеванского]. Труды Киевской духовной семинарии. 1870. №5. С.247).
«Гармоническое соединение крайностей» – это как раз классическая добродетель языческой философии, но никак не апостольского Христианства, прямо запрещающего соединение «да» и «нет» в один софизм «от лукавого» (Мф 5:37). Поэтому студент Малеванский в данном случае просто бездумно повторяет благоглупости, которым его научили византийские оригенисты, или православные неоплатоники. В свою очередь вопросы к церковному креационизму как именно христианскому неоплатонизму IV-V вв. и адресовывал поздний Августин другому «студенту (платоновской) академии» – Виктору Винсентию в обращенной к нему первой книге сочинения «О душе и ее происхождении», что было не чем иным, как новым вызовом в священной войне Августина с пелагианством, или – точнее – уже как раз с церковным «полупелагианством» как рудиментарным язычеством.
«Ибо если я спрошу его, почему они [умершие младенцами] заслуживают осуждения, если они не были крещены, он справедливо ответит мне: из-за первородного греха. Если я затем спрошу, каким образом они происходили от первородного греха, он ответит: от греховной плоти, конечно» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.13. Цит. изд.). Здесь хорошо виден тот способ передачи первородного греха, который, как мы показали, догматизирован в церковном креационизме, когда передача греховности происходит исключительно от плоти к совершенно безгрешной самой по себе душе (потому как утверждается, что она всякий раз выходит непосредственно из рук Всесвятого Творца в первозданном состоянии, тождественном том, которое имела при своем сотворении душа Адама). И далее Августин показывает богословское недомыслие такой теории. «Если я продолжу спрашивать, почему они заслужили быть осужденными на греховную плоть, поскольку они не сделали никакого зла до того, как пришли во плоти, чтобы быть таким образом осужденными на заражение грехом другого [падшего Адама], что ни крещение не возродит их, рожденных такими, какие они есть во грехе, ни [евхаристические] жертвы не искупят их в их загрязнении: пусть он найдет что-нибудь, чтобы ответить на это! Ибо при таких обстоятельствах и от таких родителей эти младенцы родились или все еще рождаются, что для них невозможно достичь такой помощи. Здесь, в любом случае, все аргументы отсутствуют. Наш вопрос не в том, почему души заслужили быть осужденными на свое дальнейшее общение с греховной плотью» [т.е. после совершения вольных грехов под пагубным влиянием плоти]? «Мы спрашиваем: как получилось, что души заслужили быть осужденными на то, чтобы подвергнуться вообще этому общению с греховной плотью, поскольку у них не было греха до этого общения [как утверждает теория креационизма]» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.13. Цит. изд.). Что и означает пелагианское, по сути, отрицание передачи греховности от души прародителя к душам всех его потомков. И лучшим подтверждением того, что в теории креационизма, действительно, отсутствуют какие-либо аргументы на этот счет, служит не богословское бессилие «студента» Виктора (примеры которого Августин приводит следом), но самые авторитетные церковные тексты, которые сознательно покрывают этот вопрос покровом адогматического безмолвия, дескать, перед «неизреченной тайной».
«Всеми признается, что плоть рождается от плоти; Творец же всяческих тем образом и способом, каким Сам ведает, создает душу; и тем не менее, рождающая жена, хотя и является источником только плоти, считается родившей всего человека, из души и тела, несмотря на то, что от себя ничего не привнесла для бытия души» (свт. Кирилл Александрийский. Против богохульств Нестория, 1.4 // PG. 76. Col. 37 // Пашков П. Некоторые святоотеческие суждения о творении индивидуальных человеческих душ).
«Учитель [свт. Григорий Богослов], разъясняя, что двояк логос и тропос, по которому создано человеческое естество: один – души, а другой – тела. Рождение от тел разделяет мысленно на два: показывая душу от божественного и жизненного вдохновения неизреченно образуемой, а тело из наличной материи того тела, из которого оно одновременно с душой приходит в бытие вследствие зачатия» (Максим Исповедник, прп. О недоумениях к Иоанну, 105 / О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия. М., 2006. С. 293) / Пашков П. Некоторые святоотеческие суждения о творении индивидуальных человеческих душ).
При этом, напомним, этот же учитель утверждал, что душа не является переносчиком первородного греховности потому, что по своей природе есмь «струя божественной сущности» и «второй свет», потому что «еще Платон и Филон» это доподлинно знали, а неоплатоники как просветители на общественных началах делились этим «гнозисом» со всеми в различных платоновских академиях того времени (еще не разогнанных эдиктом Юстиниана как разносчики духовной заразы). В таком случае, и сам преп. Максим, получается, принял по наследству от всей этой «плеяды учителей» отдельные идеи их эллинистической «психологии».
«Итак, сотворение души, — как явственно говорит учитель, — не бывает из наличного материала, подобно [сотворению] тела, но изволением Божиим — посредством жизненного вдохновения — неизреченно и недоведомо, как знает один лишь ее Создатель. Душа, приемля бытие в момент зачатия одновременно с телом, приводится к составлению единого человека; а тело из наличной материи — то есть, образуется из другого тела в момент зачатия одновременно с душой, приемля синтез с нею, [дабы] быть одним видом» (Максим Исповедник, прп. О недоумениях к Иоанну, 106 / О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия. М., 2006. С. 295 / Пашков П. Некоторые святоотеческие суждения о творении индивидуальных человеческих душ).
Т.е. все строго по учебнику психологии софиста Платона:
«Еще Платон говорил о том, что Бог “чеканил” живые существа “соответственно природе первообраза” [Тимей 39е]» (Митрополит Иларион (Алфеев). Таинство веры. Введение в православное богословие. Изд. 8-е. М., «Эксмо», изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С.79).
А некоторые окончившие академический курс студенты думают, что если что-то у самого Исповедника написано, то это все равно, что скрижали Моисея. Хотя, даже с точки зрения здравого смысла, когда не знаешь, каким именно образом Бог творит индивидуальные души, то лучше промолчать «неизреченно» (за «смиренномудрого» сойдешь), чем безапелляционно утверждать, что «совершенно точно не из наличного» биоматериала, потому что «еще Плотин в Эннеадах» говорил, что тела это гробы или темницы, а психеи в них – это заколдованные спящие красавицы или похищенные злыми волшебниками принцессы.
«Размысли, что устроивший и одушевивший нас Бог каждой душе дал особенный путь в этой жизни и для каждого положил свои пределы исшествия. По неизреченным законам Своей премудрости и правды, одному предуставил долее пребывать в сотовариществе плоти, а другому повелел скорее разрешиться от телесных уз. Как из ввергаемых в темницы одни большее время бывают заключены в обременительные узы, а другие находят для себя скорейшее освобождение от злострадания, так и души, одни надолго, а другие не надолго удерживая в настоящей жизни, по мере достоинства каждого, как о каждом из нас премудро, глубоко и неисследимо для ума человеческого предусмотрел Сотворивший нас» (свт. Василий Великий. Беседа 5-я / свт. Василий Великий, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Творения в 2 т. М., «Сибирская благозвонница», 2008-2009. Т.1. С.621).
Поэтому самым «недоведомым» и «неисследимым» во всем этом православном неоплатонизме объективно оказывается то, за что пелагианствующие креационисты новейшего поколения великодушно хвалят Августина и за что они его журят (опять же, продолжая невежественное занятие Виктора Винсентия, тоже «пытавшегося утверждать то, о чем он ничего не знает» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1:26. Цит. изд.).
С.М. «Относительно же бл. Августина нужно заметить, что в молодые годы своей жизни он прямо склонялся на сторону традуционизма, но зато в более позднее время изменил свой взгляд, не посовестившись признаться в своем полном неведении по сему предмету, стоящему далеко за пределами опыта и знания человеческого».
П.П. «Самая замечательная черта Августина – он никогда не стеснялся сказать, что ошибается».
С.М. «К сожалению, у меня впечатление, что при этом он с годами делал больше ошибок, а не меньше. Он был лично, несомненно, выдающийся человек, но просто в очень неблагоприятные условия попал, видимо».
П.П. «Это да и да» (Пашков П. Некоторые святоотеческие суждения о творении индивидуальных человеческих душ. Комментарии).
И ничего, что позиция Августина эволюционировала в прямо противоположном направлении: от неоплатонического креационизма в ранний период в сторону традуционизма путем осознания ошибочности первого во время «пересмотров» на склоне лет. Поэтому единственное, что совершенно верно в приведенном диалоге, это то, что Августин, действительно, «попал в очень неблагоприятные условия», а именно, в историческую эпоху владения неоплатонизма умами всего образованного общества, где он, наоборот, был один из немногих в Церкви, кто сполна осознал пагубность этой системы образования для богословия. Поэтому и самому Августину приходилось вместе со всеми платить дань этой «неизреченной» церковной психологии IV-V вв. и, в частности, долгое время быть сторонником креационизма смешанного, христианско-неоплатонического типа.
Поэтому подлинным ориентиром для всех христиан в этом вопросе должны быть слова святителя Игнатия: «Всякая наука темна для не изучивших ей; остается она значительно темною для изучивших недостаточно и поверхностно. <...> Познание духов, познание по возможности точное и подробное, необходимо для христиан» (свт. Игнатий (Брянчанинов). Прибавление к Слову о смерти / свт. Игнатий (Брянчанинов). Слово о смерти. М., «Отчий дом», 2010. С.278). И, несомненно, именно к этой ясности и точности, столь ему свойственной, стремился Августин в своем последнем исследовании генеалогии души, поэтому он и не мог удовлетвориться теми неопределенностями и «таинственными» лакунами, которые ему предлагала богословская антропология его времени. «…я узнаю, когда Он Сам научит меня, в Свое благое время. <…> Да, действительно, я научусь, если апостол учит; поскольку только Бог учит через апостола» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.25-26. Цит. изд.).
Поскольку в теории креационизма «предполагается, что душа младенца не стала достаточно взрослой, чтобы ее воля стала свободной [для совершения греха добровольно], — это не открывает иной причины, по которой осуждение должно настигнуть ее, не принявшей крещения, кроме причины первородного греха. [Только] из-за этого греха мы не отрицаем, что душа справедливо осуждена, потому что за грех справедливый закон Бога назначил наказание. Но затем мы спрашиваем, почему душа была вынуждена претерпеть это греховное состояние, если она не происходит от той единой изначальной души, которая согрешила в первом отце человеческого рода?» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.16. Цит. изд.). И поскольку вразумительного ответа на этот вопрос у креационизма нет, а передачу греховности непосредственно от души к душе он, верный заветам Платона и Плотина, категорически отрицает, то, тем самым, всякий креационист, пусть и неосознанно, «впадет в пагубную ересь Пелагия. И чтобы избежать этого, насколько лучше ему разделить мои сомнения относительно происхождения души, не смея утверждать то, что он не может постичь человеческим разумом и защитить божественным авторитетом! Так он не будет обязан произносить глупости, если боится признаться в своем невежестве» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.16. Цит. изд.). Подтверждением чего и служит магистерская диссертация Малеванского, которого не где-то там «на стороне далече», но прямо в стенах Духовной академии научили тому, что если смешать в одном магическом флаконе августианство с пелагианством, то на выходе получится «чистое золото» православного оригенизма.
Поэтому эту подспудную пелагианскую пагубу креационизма мы можем наблюдать отнюдь не у одних только Целестия, Пелагия и Юлиана, но и у церковных авторитетов первой величины.
«Душа не может рождать душу, хотя не сомневаемся, что плоть зачинается от человеческого семени и растет. Так апостол ясно различает то и другое существо (substantia), т.е. плоть и душу, какая какому виновнику приписывается, говоря: “Если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?” (Евр 12:9). Что могло быть яснее этого различения, когда апостол отцами плоти нашей называет людей, а отцом душ – одного Бога?» (Преподобного отца Иоанна Кассиана пресвитера на 10 собеседований отцев, пребывавших в скитской пустыне, к епископу Леонтию и Елладию посланных. 8.25) / Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина. Изд. 2-е. М., типо-литография И.Ефимова. 1892 С.322).
Но ведь тела тоже не могли бы рождать другие тела сами по себе, если бы Творец сущих непрерывно не промышлял об их размножении, т.е. не тиражировал бы их посредством их системы оплодотворения и рождения. Поэтому вопрос о том, каким именно образом Создатель производит души, как минимум, является открытым (или «недоведомым» – в терминологии креационизма). Что и пытался Августин донести до другого начинающего «магистра богословия» Виктора. Но что совершенно точно не соответствует действительности в последней цитате, так это очередное неадекватное толкование Кассианом Писания. Потому что в действительности «апостол ясно различает» не только «существо души и тела», но и «существо души и тела» нового и ветхого человека. Или (что то же самое) Апостол различает Бога-Творца для ветхого человека, и Бога-Отца для нового человека во Христе. По этой причине «Отцом духов» Апостол называет Бога в отношении душ только нового человечества во Иисусе Христе Сыне Божием (а вовсе не всех душ, как думает Кассиан, по неоплатоническим принципам креационизма), что видно из контекста: «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы ещё не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает» (Евр 12:3-6). Кассиан же как представитель системного полупелагианства не делает этого принципиального отличия между ветхой и новой человеческой субстанцией. Потому что для всех креационистов (как все еще «неоплатоников в душе») грехопадение, «повреждение (порча) природы» и ее благополучное «восстановление» в природном богоподобии – все это естественный процесс неоплатонического «становления души достойной Духа». В Христианстве же, т.е. в Священном Писании, или в Христианстве Апостолов, грехопадение и ангелов, и людей это, напротив, необратимый процесс перехода в антисубстанцию, в противоестественное состояние природы, абсолютно непреодолимое для тварного духа. Душа нового человека во Христе «рождается от Духа» (Ин 3:6), или духовно воскрешается от первородного состояния смерти действием божественной благодати, что совершенно сверхъестественно. Ветхая же душа так и остается носителем греховной природы, которой даже «человеческой» называть богословски некорректно. «Только соединение души и тела, принимая Духа Божия… составляет человека» (св. Ириней Лионский. Против ересей. 5.8.2 / PG. Т.7. Col. 1142B). Поэтому после грехопадения и лишения благодати «человеческая душа» в собственном смысле этого слова – это душа нового Адама. И только те новые души, которые духовно рождены от души этого Сына Человеческого в Таинстве Крещения благодатью Духа, являются «сынами человеческими» в отношении Бога-Отца, потому что усыновляются Им и, тем самым, соответствуют логосу своего пакибытия, своему предназначению (или как раз своей природе). Поэтому новому человеку в Себе Спаситель дает молитву «Отче наш», а ветхому человеку объявляет, что «ваш отец диавол; и [поэтому] вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин 8:44). А чтобы полупелагиане, как всегда, не подумали, что это сказано в волюнтаристическом смысле, т.е. касается только тех, кто порочнее других по добровольному самоопределению, потому что закоренел в греховной жизни (и что является толкованием навыворот, потому что меняет причину и следствие местами: дескать, кто чью воля исполняет, тот того и становится «сыном»), так вот, чтобы христиане не поняли Его на этот пелагианский манер, Спаситель указывает на общечеловеческий масштаб это дьяволосыновства. «Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол» (Мф 13:37-39). Что означает, что «сынами лукавого» становятся не по собственной воле, но каждый потомок ветхого Адама является таковым по самой своей ветхой природе. Не они («сыны лукавого») его выбрали в отцы лукавством своего самоопределения, но он их всех выбрал еще в лукавстве ветхого Адама, заполучив их в свою собственность со всеми их «психическими» потрохами, со всем их знаменитым на всю ойкумену «самовластием». По этой же причине Христос говорит Симону как еще «ветхому человеку»: «отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф 16:23), что указывает на субстанциональное подобие богоборческого сознания «ветхого человека» сознанию демонов, или является лучшей иллюстрацией к тому, что имел в виду Апостол, сказав, что «плотские помышления суть вражда против Бога» (Рим 8:7). Т.е. все эти богооткровенные истины подлинной христианской антропологии говорят о том, что ветхое человечество находится в положении духовного «усыновления» дьяволом, произошедшем в первородном грехе прародителей. Как тот, кто берет в рабство супружескую пару, получает в рабство и все их будущее потомство, которое родится в этом рабстве. И в этом смысле все потомки ветхого Адама были в его падении «избраны» дьяволом, и поэтому обречены были сами избирать своей падшей волей смертные грехи как «похоти» своего духовного отца. Соответственно, и спасение избранных в новом Адаме могло быть только зеркальным: «Не вы Меня избрали» [своим пелагианским самовластием], «а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Моё, Он дал вам» (Ин 15:16). Т.е. Он избрал их и поставил таким образом, что они, в свою очередь, уже не могли Его не избрать, не могли не приносить плода, не могли не просить Отца во имя Его и т.д., потому что все это уже было заключено в самом их избрании как даровании им нового человеческого естества (тождественного Его благодатному человечеству), природными свойствами которого были все перечисленные благодатные «плоды» духовной жизни. «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать [Апостолов] и бывших с ними» (Мф 24:32-33).
Поэтому все то, что Августин адресует пелагианствующему Виктору Винсентию безо всяких изменений должно быть перенаправлено и к Кассиану, который даже ссылается на те же самые места Писания, что и Виктор, и столь же превратно их толкует. «Здесь, возможно, он может сказать, что его мнение подкреплено божественным авторитетом, поскольку он предполагает, что доказывает отрывками из Священного Писания, что души не созданы Богом путем размножения, но что они отдельными актами творения вдыхаются заново в каждого человека. <…> “Так говорит Господь, сотворивший небо и основавший землю и всё, что на ней: который дает дыхание людям, и дух ходящим по ней” (Ис 42:5). Он хочет, чтобы этот отрывок понимали в том смысле, который он защищает; так что слова “который дает дыхание людям”, по его мнению, означают, что Бог создает души для людей не путем размножения, а путем вдыхания новых душ в каждом случае. Пусть же он смело утверждает в этом отношении, что Бог не дает нам плоти, на том основании, что наша плоть берет свое начало от наших родителей. <…> пусть он отрицает, если осмелится, что зерно вырастает из зерна, а трава из травы, из семени, каждое по роду своему. И если он не смеет отрицать этого, то откуда он знает, в каком смысле сказано: “Он дает дыхание людям”? — через происхождение ли от родителей, или через новое дыхание в каждого человека?» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.17. Цит. изд.).
Кроме отрицания генетики душ неизжитый античный идеализм в психологии, или клишированная языческая вера в божественность человеческой души в церковном креационизме сказывается в том, что под «духом, возвращающимся к Богу», пелагианин умом Виктор понимал, конечно же, душу, а не благодать Святого Духа, в той же неплатонической парадигме, в которой Кассиан не различал благодатной природы нового человека и естественной духовности души, якобы сохраняющейся и в ветхом человеке настолько, что он способен «соработать» с благодатью этим своим «природным духом» как подобное с подобным. «И почему, опять же, он так уверен, что повторение [дыхания и духа] в стихе Ис 42:5 не является синонимией и не может говорить об одном понятии двумя разными выражениями, обозначая не ту [собственную] “жизнь”, или [врожденный] “дух”, посредством которых живет человеческая природа, но [благодать] Святого Духа? Ибо если бы под “дыханием” не могла быть обозначена [благодать] Святого Духа, Господь не сказал бы, когда Он “дунул” на Своих учеников после Своего воскресения, “Примите Святого Духа” (Ин 20:22). И не было бы написано так в Деяниях Апостолов: “Внезапно сделался шум с неба, как бы сильное дуновение нашло на них; и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и все исполнились Духа Святого” (Деян 2:2). Предположим теперь, что именно это предсказал пророк в словах “который дает дыхание народу на нем”; а затем в качестве объяснение того, что он обозначил как “дыхание”, продолжил и сказал: “дух ходящим по ней”. И несомненно, что это предсказание было исполнено, когда все они были наполнены Святым Духом [т.е. Его благодатью как дыханием жизни]. <…> Ибо тот дух, который дан человеку как принадлежащий его природе, дается ли он через размножение или вдыхается как нечто новое индивидуально (и я не определяю, какой из этих двух способов должен быть утвержден, по крайней мере, пока один из двух не будет установлен ясно и несомненно), дается людям не тогда, когда они “ходят по земле”, но когда они еще заключены в утробе матери. <…> “Итак, Он дал дыхание людям на земле, и дух тем, кто ходит по ней”, когда многие стали верующими вместе и были вместе наполнены Святым Духом. И Он дает Его Своему народу, хотя не всем одновременно, но каждому в Свое время, пока не исполнится все число Его народа, уходящего из этой жизни и приходящего в нее» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.18. Цит. изд.). Можно было бы сказать: «вот это блестящее толкование», если бы оно не было просто адекватным Писанию, тождественным ему по богословскому содержанию, или таким, каким и должно быть святоотеческое толкование.
Блестящим же оно становится лишь в сравнении с неадекватным толкованием Кассиана, в котором происходит та же самая аберрация, что в толковании другого креациониста – Виктора Винсентия, потому что тот и другой по инерции античного религиозного гуманизма не различают природы и природных свойств ветхого и нового человека, исходя из того, что «духовность» присуща душе априори, будучи сообщена ей раз и навсегда в акте творения первой души и что якобы повторяется в каждом последующем акте творения (как будто никакого первородного греха и не было или он «повредил» только природу тела). Поэтому, отставляя пока в сторону вопрос, чтό является материалом для творения индивидуальных душ (субстанция ли это душ их родителей или то «ничто», из которого сотворена была душа первого Адама, что еще надлежит исследовать должным образом), Августин сразу указывает на то, что является, несомненно, ложным в толковании Винсентия. И это все тот же подспудный неоплатонизм креационистического учения о происхождении души как таковой (т.е. всякой души: что первой, что всех последующих) из самого «дыхания» Бога, что нельзя понять иначе, кроме как в модусе эманации Плотина. «…также должен возникнуть вопрос, какими средствами душа человека сформирована Им <…> или (как утверждает этот человек, в смысле, которого мы должны всеми средствами остерегаться) от некой собственной природы божественного дыхания, созданного не из ничего, но [получается] из Него Самого» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.23). То же самое, повторим еще раз, происходит и в толковании всех тех представителей патристического креационизма, которые толкуют «Отца духов» (Евр 12:9) как «Отца» (а не Творца) всех душ и которые (по этой же самой причине остаточного неоплатонизма в пневматологии) понимают под «духом», даваемым Богом всем живущим на земле (Ис 42:5) и естественно «возвращающимся» к Нему после их физической смерти (Еккл 12:7), опять же, саму тварную душу, а не нетварный дух божественной благодати. Как сам же Августин и склонен был считать вместе со всеми в свой неоплатонический период «Результатом неоплатонического опыта блаженного Августина, имевшим наибольшие последствия, было, по видимому, то, что открыл <…> существование "духовной природы", понимаемой им как совершенство бытия, и родство в этой перспективе между духовной природой человеческой души и "духовной" природой Бога» (Архимандрит Плакид (Дезей). Блаженный Августин и «филиокве» / Хрестоматия по сравнительному богословию. М., «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры», 2005. С.368).
О том, что все это отнюдь не преувеличение, свидетельствует еще одно учебное пособие духовно-образовательных учреждений Русской Церкви: «Как следует понимать “дыхание жизни” (πνοὴν ζωῆς)? а) Дыхание жизни есть божественная эманация, происходящая из сущности Бога. Это мнение разделяли главным образом гностики и манихеи. Нехарактерное для православных авторов, оно было отвергнуто Церковью. Иногда мысли, напоминающие эманатические представления о происхождении души, можно встретить и у православных авторов, когда они рассуждают о сотворении души не в догматическом контексте. Например, свят. Григорий Богослов, вероятно, желая подчеркнуть высочайшее достоинство человеческой души, называет ее “струей невидимого божества” и “частицей Божественного” [Похвала девству]. б) Дыхание жизни есть собственно душа. Это мнение встречается у Климента Александрийского [Строматы. V. 14. 19], свят. Григория Богослова [Слово 38; Слово 45] и др.» (прот. Олег Давыденков. Догматическое богословие: учебное пособие. М., изд-во ПСТГУ, 2017. С.272-273), т.е. как раз у «других» представителей патристического неоплатонизма, или православного оригенизма. Потому что если теория под литерой «а» – это просто античный гностицизм, то теория под литерой «б» – это еще не Христианство, но что-то среднее между гностицизмом и Христианством, потому что голос религиозного гуманизма, характерный для классического гностицизма, здесь по-прежнему звучит достаточно отчетливо. «Человек, который, действительно, предполагает это [исхождение души из Духа в Его «дыхании»], как бы сильно он ни отрицал на словах вывод, в действительности утверждает, что души имеют сущность Бога и являются Его потомками не по дару, а по природе» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.32). Именно по этой причине «Отца духов» креационизм понимает как «Отца душ». В то время как ортодоксальным является именно то учение под литерой «в», которое, отрекаясь от эллинского идеализма, теперь защищал Августин и в очном экзегет-баттле с Виктором Винсентием, и в заочном – с Иоанном Кассианом. «в) Дыхание жизни не есть собственно душа, но творческое Божественное действие, результатом которого является создание души. Блаж. Августин учил, что “это вдуновение (insufflatio) означает само действие Божие, которым Бог сотворил душу в человеке Духом Силы Своей”» (De Genesi contra manichaeos II. 8. 10 // PL. T. 34. Col. 201). Где «действие» Духа это стабильный синоним благодати в паламизме. В то время как душа ветхого человека творится принципиально другим способом: «Адам жил сто тридцать лет и родил [сына] по подобию своему по образу своему» (Быт 5:3). «Ибо от кого бы человек ни получал начало своей природы, от него, со всей серьезностью необходимо признать, он также получает вид своей природы» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1:32).
Аналогично восточным неоплатоникам (или православным оригенистам) понимал все приведенные фрагменты Писания и античный ум Пелагия, т.е. как говорящие о субстанционально присущей каждой душе «естественной благодати», получаемой в акте творения как «выдыхания Бога», в процессе которого само «выдыхаемое» (или «дух») и становится «душою живою», эволюционируя в нее как в подобную Ему духовную субстанцию:
«Ибо существует, повторяю, у нас в мыслях некая природная святость; пребывая как бы в святилище духа, она выносит свое суждение о добре и зле, одобряя поступки честные и справедливые, дурные дела она осуждает, и по свидетельству совести, по некоему внутреннему закону она принимает решения о различных явлениях» (Пелагий. Послание к Деметриаде. IV / Роттердамский Э. Философские произведения. М., «Наука», 1986. С.599).
Здесь криво истолковывается уже фрагмент из «Послания Римлянам» («когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим 2:14-15)), откуда Пелагий делает ложное умозаключение о способности ветхого человека исполнять Закон Божий силами своей воли и разума. В действительности же, Апостол приводит этот аргумент, чтобы показать отсутствие разницы между иудеями и язычниками в отношении благодати Царствия Небесного, т.е. общую греховность всего ветхого человечества в ветхом Адаме, а не равную способность иудеев и эллинов к праведности, как понимает это ветхий человек Пелагий своим античным сознанием, т.е. ровно наоборот апостольской мысли. Потому что все «Послание Римлянам» про то, что «нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Рим 3:1-12). Поэтому Апостол приводит пример язычников, порой делающих «законное» с помощью естественных добродетелей, чтобы посрамить иудеев, делающих не более чем то же самое, но наученных Законом; а вовсе не для того, чтобы похвалить язычников за это. Потому что подавляющее большинство духовно-нравственного содержания жизни тех и других составляли беззакония, а вовсе не это частичное исполнение Закона. Поэтому «делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» (Рим 3:20-25). Что в контексте того фрагмента второй главы (14-15), которую Пелагий в традиционной для креационизма гуманистически-идеалистической манере истолковал противоположно апостольскому смыслу, означает, что и «делами естественного закона» (т.е. делами совести) перед Богом оправдаться так же невозможно, как и делами писанного Закона, потому что теми и другими познается одна и та же врожденная греховность ветхого человека, катастрофическая деградация его воли и разума, в лучшем случае исполняющего «категорический императив нравственности» с переменным успехом.
И все это потому, что все грехи, совершенные разумными существами одной природы, пишутся не только в «книгах мертвых», по которым будут судимы в последний день все, кто не записан в «книге жизни» (Откр 20:12-13), но еще и в макромолекулях физического тела и биомассы души, почему и происходят родовые и общевидовые мутации: природа ангелов вырождается в природу бесов, а природа первозданного человека (состоящая из души и тела) – в плотскую природу ветхого человека. Поэтому органическая теория спасения не противоречит юридической теории искупления, ибо происходит и то, и другое: вменение Богом греха Адама всем его потомкам и поэтому наследование ими и падшей природы его тленного и смертного тела, и греховной природы его души, страстной и злокозненной по уму и по воле. Поэтому и оправдание всех, кто во втором Адаме, совершается Его Кровью и Его совершенной Праведностью, потому что наследование Его обоженной человеческой природы делает возможным в них и «ум Христов», и Его (как «Сына Человеческого») покорную Отцу волю, и вообще все святые христианские добродетели.
Подводя итог первой книге трактата «О душе и ее происхождении», Августин формулирует четыре пункта, при условии отказа от которых он готов продолжать обсуждать, вернее – исследовать совместно со сторонниками креационизма их теорию происхождения душ после грехопадения, проверяя ее на соответствие Священному Писанию. «…[1] не позволяйте им утверждать, что души становятся грешными из-за чужого первородного греха; [2] не позволяйте им утверждать, что младенцы, которые умерли некрещеными, могут достичь вечной жизни и Царствия Небесного через прощение первородного греха каким-либо иным способом; [3] не позволяйте им утверждать, что их души согрешили в каком-то другом месте до своего воплощения, и что по этой причине они были насильно введены в греховную плоть; [4] и не позволяйте им утверждать, что грехи, которые фактически не были найдены в них [душах умерших младенцах], были, поскольку они были предопределены, [и поэтому они] заслуженно наказаны, хотя им никогда не было позволено достичь той жизни, где они могли быть совершены» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1:34). Как не трудно заметить, второй пункт направлен против пелагианства (3 канон Карфагена 418), а третий – против оригенизма (2 правило VВС). Гораздо интереснее первый и четвертый пункты, потому что последний отвергает как заведомо ложную не что иное, как концепцию предопределения по предведению заслуг, которая вошла во все православные катехизисы и которую Августин справедливо находил пелагианской по своей логике у всех своих оппонентов. То же самое касается и первого пункта, потому что принципы эллинистического волюнтаризма (признания грехом только вольного греха, совершенного самовластием индивида), на которых стоял и оригенизм, и пелагианство, как раз и предполагали неизбежный вывод о том, что грех первого Адама является «чужим» для его потомков, а значит, не может наследоваться непосредственно как падшая природа вообще и природно-греховная волю, в частности. Т.е. та воля, которую Максим, по логике все того же волюнтаризма, называл «гномической» и относил к индивиду, противопоставляя ее идеалу «природной воли» (дифференцирование которой после грехопадения у Максима – это процесс подобный обособлению духов по мере удаления от их первоначального единства в Боге у Оригена), эта «гномическая воля» и была именно «природной волей» падшего человечества, передаваемой от души к душе точно так же, как передается «греховное повреждение» природы тела. Иными словами, первородный грех не был ни для кого из потомков Адама чужим, потому что им, этим грехом, была порождена та греховная природа, которой каждый из них был носителем. Поэтому они не могли не вожделеть греха всеми фибрами своей плотской души точно так же, как заяц – морковку, а волк – зайца. Соответственно, и отказаться от этих двух пунктов всем заочным или будущим оппонентам Августина со стороны креационизма было крайне затруднительным, потому что на них он и стоял, как Земля на китах в древних моделях мира. И если бы Августин прожил дольше, и эта полемика продолжалась бы, он окончательно склонился бы к теории размножения душ как опосредованного творения их Богом из субстанции душ предков, потому что это было единственной альтернативой гуманистическому идеализму креационизма. И – нашел бы достаточное количество тому подтверждений в Писании. «Да, действительно, я научусь, если апостол учит; поскольку только Бог учит через апостола» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.26. Цит. изд.).
Александр Буздалов

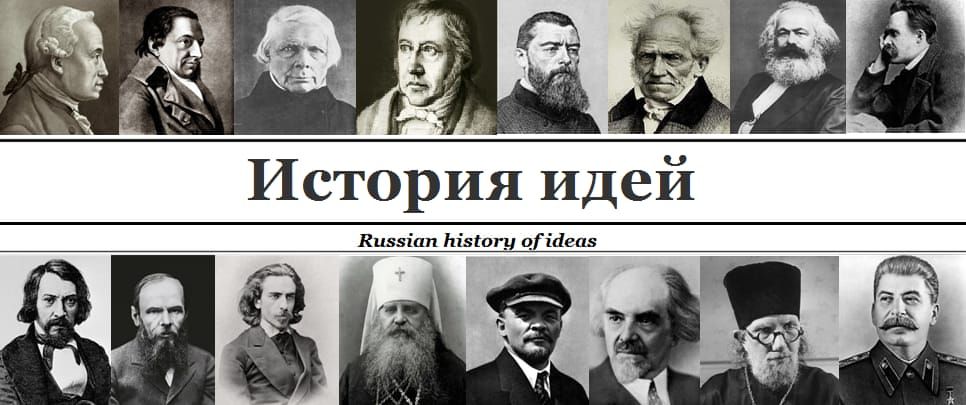




Комментарии
Михаил
2024-12-25 21:43:32
"Поэтому после грехопадения и лишения благодати человеческая душа в собственном смысле этого слова – это душа НОВОГО Адама"? Имели ввиду Ветхого, вероятно, опечатка?
Буздалов А. - Михаилу
2024-12-25 22:24:12
Нет. Душа первого Адама была человеческой до тех пор, пока была обожена благодатью (хотя и не в той мере, которой обожена душа второго Адама, имеющего как Бог всю полноту благодати). Поэтому после грехопадения (и потери благодати) природа первого Адама уже не могла называться человеческой в богословском значении этого слова, ибо логос человека предполагает воипостазирование благодати. Поэтому после грехопадения праотца первая в истории собственно человеческая душа - это душа Сына Человеческого как второго Адама.
Михаил
2024-12-26 03:25:44
После грехопадения, душа уже ветхого человека, правилно? Второго, в смысле, не первозданного.
Михаил
2024-12-26 14:14:06
Понятно, просто по тексту показалось, что речь идет о душе падшего "человека", а не о душе Истинного Человека- Нового Адама Истинного Бога и Истинного Человека.В этом сысле, с богословской точки зрения, только Он может именоваться человеком и все заного ражденные от воды и Духа освященные благодатью.
Виталий
2024-12-27 04:45:30
Своей критикой вы подрываете авторитет церковного предания,которое является неоспоримым источником православного вероучения.Вы умный и талантливый человек,но не забывайте,что вероучительные истины православной церкви есть результат соборного мышления.ЧЕЛОВЕКУ СВОЙСТВЕННО ОШИБАТЬСЯ.
Виталий
2024-12-27 05:01:12
Вселенские учители церкви не могли ошибаться коллективно.Ваше утверждение,что античная философия в полном своем составе есть ложь, в корне не верно.Святые отцы на то они и святые,что были Богом просвещаемы.Ложь они отвергали,а то что соответствовало истине они принимали.
Буздалов А. - Виталию
2024-12-27 13:11:21
Я раньше тоже думал, что не могли. Но оказалось, что ничто человеческое Византии тоже было не чуждо, кумовство, в частности
Буздалов А. -Виталию
2024-12-27 17:42:33
Поэтому от нее и остался только один квартал в Стамбуле, и тот в ереси
Прот.Константин,Грузия.
2024-12-29 16:53:32
Здравствуйте Александр! В Оригеническо-евагриннской концепции ум, душа.воля человеческая одного значения, в их мистике , как и в святоотеческой речь идёт об умной молитве .В чем реальное различие вы видите ,исихазма отцов и евагреским учением? Все выглядит так переплетено, что не легко увидеть разницу, а она должна быть.
Буздалов А. - Прот. Константину
2024-12-29 18:26:29
Здравствуйте, о. Константин. Действительно, на первый взгляд, разницы незаметно. Но если повнимательнее прочитать или изучить вопрос более углубленно, то открывается весьма существенная разница с богословской точки зрения. Меня уже спрашивали об этом же самом, только в отношении преп. Иоанна Кассиана. И поскольку это буквально одно и то же (в Египте Кассиан учился у Евагрия и, несомненно, последний был бы изгнан из Александрийской Церкви вместе с Кассианом и остальными православными оригенистами, если бы не умер за год этого), поэтому могу просто повторить тот же самый ответ. Все что Кассиан и Евагрий говорят об умной молитве и вообще об аскетической практике – это все православно и душеспасительно. Неверно здесь только то, как они объясняют, как это реально работает, откуда берутся силы на такие подвиги, что из чего следует и т.д. Ведь Пелагий тоже был монахом и весьма деятельным и горячим в вере. Его мотив был – как раз усиление аскезы, упрек христиан в теплохладности, отказ взять на себя еще большие аскетические подвиги под предлогом немощи человеческого естества, ослабленного первородной греховностью. Так вот суть в том, что у Евагрия было то же самое, только шло от Оригена, а не Пелагия. Потому что и тот, и другой понимали благодать на неоплатонический манер – как то, что превращено в саму субстанцию души, на которую грех праотца не может повлиять (потому что, как говорит наш общий знакомец Роман Алексеевич, «природа неизменна и во грехе», привет Пелагию)... Поэтому свою природную волю они считали естественной благодатью как производительной силою духовной (спасительной) жизни. А «помощь благодати» понимали только как преумножение Богом этой врожденной силы души в качестве награды за приложенные усилия. И получалось прямо по Апостолу (т.е. именно так, как не нужно было думать): благодать не была уже благодатью. То, что совершил Один Бог в них (полупелагианах-синергианах) Христа ради (воскресив их от духовной смерти первородного греха в Таинствах Церкви), они, по своему остаточному языческому мудрованию, приписывали себе-всемогущим. За что заслуженно получали от Августина вердикт пелагианства. Сейчас, к сожалению, просто не осталось вменяемых богословов. которые в состоянии это поднять. У всех мозги набекрень от того, что все это веками преподавалось в духовных семинариях и академиях и попало во все Символические книги. Поэтому считается, что Александр Буздалов прошло сошел с ума, раз нашел ошибку в Добротолюбии. Но я-то знаю, что прав. Поэтому надеюсь, что благоразумие победит тупость. И если в Добротолюбии есть несоответствие Писанию, то нужно исправить Добротолюбие, а не повторять как мантру «смиренномудрия», что такого не может быть, потому что «консенсус патрум» не мог так лохануться.