Сonsensus haereticorum
Дата создания:
![]()
Минерва дарует душу человечеству, созданному Прометеем (1807-1808 гг.). Рельеф Бертеля Торвальдсена. Музей Торвальдсена, Копенгаген.
В своем учении о человеке, оказавшем значительное влияние на антропологию Церкви, Ориген различает «душу» и «ум» (или «дух») как низшую и высшую части одной духовной субстанции, или – вернее – как различные ее состояния, а именно, состояния грехопадения и спасения.
«Итак, нужно рассмотреть, не названа ли душа _psuxh', т. е. душою, потому, что она охладела к ревности праведных и к участию в божественном огне, – как это ясно, сказали мы, из самого имени, – причем однако она не потеряла способности к восстановлению в то состояние горячности, в котором была в начале. Вот почему и пророк указывает, по-видимому, нечто подобное, когда говорит: “обратись, душе моя, в покой твой” (Псал. 114:7). Все это, кажется, показывает, что ум, уклонившийся от своего состояния и достоинства, сделался и назван – душою; и что душа, в случае восстановления и исправления, снова сделается умом» (Ориген. О началах. 2.8.3 / Творения Оригена, учителя александрийского, в русском переводе. Издание Казанской Духовной Академии. Казань, Лито-типография Казанского университета, 1899. Выпуск 1-2. С.146).
Сохранение душою в падшем «состоянии охлаждения» естественной «способности к восстановлению состояние горячности [участия в божественном огне], в котором она была вначале», принципиально отличает психологию (как учение о душе) и сотериологию Оригена от Христианства, где состояние спасения как обожения – это результат сверхъестественного действия божественной благодати на человека, никакой природной способности к которому у души нет точно так же, как и у тела. В то время как в оригенизме состояние теозиса («участия в божественном») является априорно-естественным состоянием души (или «ума» – в терминах Оригена), в чем сказывается эллинистическая сущность мысли этого «александрийского учителя».
«Слово Божие называет Бога огнем, когда говорит: “Бог наш огнь потребляяй есть” (Втор. 4:24). Также и о субстанции ангелов оно говорит: “Творяй ангелы Своя духи и слуги Своя огнь палящ” (Евр. 1:7), и в другом месте: “Явися ангел Господень в пламени огненне из купины” (Исх. 3:2). Кроме того, мы получили заповедь пламенеть духом (Римл. 12:11), что, без сомнения, указывает на пламенное и горячее Слово Божие. <…>. Итак, если святое называется огнем, светом, пламенем, противоположное же называется холодным, и говорится, что во многих охладевает любовь, то, спрашивается, почему же душа названа именем души, которая по-гречески обозначается словом _psuxh'. Не потому ли, что она охладела из божественного и лучшего состояния? Не потому ли это название перенесено на нее, что она, по-видимому, охладилась от той естественной и божественной теплоты и, вследствие этого, оказалась в своем настоящем состоянии и с этим названием?» (Ориген. О началах. 2.8.3. Цит. изд. С.145-146).
На этом основании антропология Оригена может быть обозначена как христианизированный стоицизм (или платонизм). Если неоплатонизм, согласно определению специалистов по истории античной мысли, – это объективация стоического субъективизма, то оригенизм – это его христианизация. Или если Плотин – это поздний эллинизм, то Ориген – это эллинизм позднейший, потому что это тоже еще нельзя назвать ортодоксальным христианским богословием.
«…исследование А. Грезера призвано доказать, что на более глубоком уровне существует многосторонняя перекличка между развивавшейся в направлении платонизма мыслью стоиков и системой неоплатоника Плотина. Эти внутренние взаимосвязи позволили даже другому исследователю, Л. Эдельштейну, утверждать, что “в области античной мысли стоический субъективизм... явился предпосылкой плотиновского идеализма”» (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М., «Фолио», «АСТ», 2000. Т.6. С.402).
Такой же «предпосылкой» стоический субъективизм явился и для богословской системы Оригена, пытавшегося создать христианское учение о душе и воле и не придумавшего ничего лучше, как воспользоваться в качестве модели учениями древних философов об этом предмете.
«…в вопросе о свободе воли А. Грезер также обнаруживает единство Плотина и стоиков по крайней мере в одном существенном пункте <…>. А именно, как Плотин, так и стоики не признавали волю (или произвол) эмпирического “я” последней причиной человеческого поведения и сходились в том, что человек в идеале свободен, то есть для него не закрыта возможность достичь подлинного, а не только воображаемого добра, сообразуясь с разумной вселенной, “всеобщей природой” или “умопостигаемым миром”. Правда, и относительно этой идеи человеческой “автономности” А. Грезер не может ответить с последней определенностью, имеет ли здесь место “стоицизирование” Плотина или же следует лучше говорить о предвосхищении у Плотина кантовской этики с ее “категорическим императивом”» (там же; с.401).
Трудность выбора исторической референции в данном случае объясняется тем, что кантовская «метафизика нравственности» была, по сути, ренессансом стоицизма (так же как шеллингианство и гегельянство – ренессансом платонизма) после завершения эры Христианства как эпохи «отступления» от языческого антропотеизма (поэтому А. Грезер не мог определиться, с каким стоицизмом – древнейшим или новейшим – лучше соотнести нравственный идеализм Плотина).
Что касается Оригена, стоявшего одной ногой в античности, а другой – в Христианстве, то в последней цитате можно видеть еще один эллинистический прототип его псевдохристианской доктрины, а именно, его учения о «восстановлении» («апокатастасисе») как «не закрытой» грехопадением «возможности» для души «достичь умопостигаемого мира», или «всеобщей природы», «автономной» частью которой она является в качестве некоей «эманации Единого» (или «божественного огня» – в терминах стоицизма).
«Дело в том, что в этом своем субъективизме стоики выдвинули на первый план рассудочную деятельность человека, особенно в том ее виде, как она проявляется в человеческом слове. <…> Конечно, будучи античными философами, стоики не могли окунуться в абсолютный субъективизм. Это свое “слово”, или логос [как свой первоначальный принцип], они тут же относили и к объективному миру, трактовавшемуся у них с внешней стороны, якобы по старинному, по гераклитовскому образцу, и трактовавшемуся как огонь или первоогонь со своими бесконечно разнообразными эманациями вплоть до человеческой души, которая была у них только теплым дыханием, и вплоть до неорганических предметов. Такой рассудочный логос, конечно, не мог объяснить всего существующего. Он объяснял только его внешнюю сторону или структуру, только его внешний рисунок. Поэтому в качестве подлинной причины происходящего стоикам пришлось признать судьбу, которая уже теряла свое мифологическое значение, а превращалась в необходимую философскую категорию. В противоположность стоикам судьба оставлена у Плотина только для подлунного мира, да и то в ограниченном смысле, в смысле тождества с логосом. Что же касается трех основных ипостасей [Единого, Ума и Души], то все они целиком исключают какую бы то ни было судьбу, поскольку Единое уже само есть своеобразная судьба, а Ум и Душа исключают всякую судьбу ввиду своей абсолютной осмысленности» (там же; с.403).
Поскольку тварные ипостаси мыслятся по аналогии с нетварными (божественными), постольку Плотин и Ориген, тоже будучи еще античными философами, приходят к схожим антропологическим парадигмам гностического типа, толкуя индивидуальные души (умы) как потенциально совершенно свободные, «исключающие всякую судьбу ввиду своей абсолютной осмысленности» (или самовластия) в идеале, осуществить который они призваны в мире детерминизма (судьбы) как результата «грехопадения» (понимаемого на все тот же гностически-мифический, символический манер).
«Эманации [стоиков] потому привлекали к себе Плотина, что они были одновременно сущностью бытия, и его становлением, и его смыслом. Но плотиновская эманация является уже не наивной текучестью бытия [как в стоицизме], но такой текучестью, в которой бытие и смысл бытия уже подверглись сначала четкой дифференциации, а потом такой же четкой диалектической интеграции. Поэтому зависимость Плотина от стоиков в области онтологии, можно сказать, огромная. Но огненные и “семенные” логосы древних стоиков оказались в философии Плотина текучими сущностями, не только не исключавшими существование сверхогненного мира идей, а, наоборот, имевшими этот мир идей своим пределом и как исходной, так и конечной точкой своего развития» (там же; с.405).
Подобное произошло и с Оригеном, у которого эманирующие из исходного состояния «диалектической интеграции» «логосы» стоиков стали огненными «умами», остывающими по мере удаления от божественного сверхогня, в который они должны вернуться, сознательно и свободно разжигая в себе из «искры пламя».
И ключевой здесь вопрос для нас заключается в том, как этому еще языческому по духу учению Оригена о божественной природе души удалось в некоторых аспектах остаться неопознанным в богословском сознании Церкви даже после осуждения оригенизма на Пятом Вселенском соборе. Несмотря на то, что теория креационизма (творения индивидуальных душ в первозданном состоянии и соединения их с передающимися от родителей греховными телами), казалось бы, существенно отличается от осужденной теория Оригена о предсуществования душ, аспект «сохранения естественной способности к участию в божественном» («содействию благодати» – в богословских терминах), по сути, является общим для этих учений (ереси оригенизма и церковного креационизма). То, что в неостоической теории Оригена называется «охлаждением души», в теории креационизма называется общим «повреждением природы» человека (состоящего из души и тела), что в обоих случаях характеризуется только как количественное уменьшение природной силы души (понижение градуса, частичная утрата совершенств или полноты и т.д.) как некоего естественно-присущего душе богоподобия («участия в божественном огне»).
Насколько все это диссонирует с антропологией и сотериологией Священного Писания, хорошо видно из следующей подборки цитат, которую приводит Ориген:
«…едва ли ты найдешь, чтобы в Священном Писании название души употреблялось в похвальном смысле; в порицательном же смысле оно часто встречается здесь, напр.: “Душа лукава погубит стяжавшаго ю” (Сир. 6:4), “душа, яже согрешит, та умрет” (Иез. 18. 4). После слов: “Вся души Моя суть, якоже душа отча, тако и душа моя сыновня” (Ibid), по-видимому, нужно было бы сказать: “Душа, делающая правду, и сама спасется; душа же согрешающая – и сама умрет”. Но мы видим, что Он соединил с душою то, что достойно наказания, а что достойно похвалы, – о том умолчал» (Ориген. О началах. 8.3. Цит. изд. С.146).
Вот именно: в Писании не найдешь тех платонических панегириков человеческой душе, которые свойственны и оригенизму, и креационизму, потому что оно – Священное Писание, «мудрость, сходящая свыше» (Иак 3:17), а не «земная, душевная, бесовская» (Иак 3:15). Что означает, что оригенизм и креационизм — это порождения одного эллинистического идеализма, пусть отголоски античных басен о божественности души слышны в первом случае сильнее, а во втором – слабее (и поэтому во втором случае, как правило, остаются незамеченными для церковного сознания).
Иными словами, если оригенизм – это христианизированный стоицизм, то креационизм — это уже христианизированный оригенизм. Недостаточно отвергнуть идею предсуществования душ и их неизбежного восстановления, потому что ложность антропологии и сотериологии Оригена этим не исчерпывается. Даже Пелагий осудил ересь «апокатастасиса» на соборе в палестинском Диосполе 415 г. в качестве доказательства истинности своего учения о злых и добрых заслугах как единственной причине спасения или осуждения. Но поскольку участники собора были недостаточно подготовлены к нему и осведомлены, они не увидели скрывавшегося здесь подвоха, потому что идея заслуги благодати была у Оригена как раз одним из главных аргументов предсуществования душ.
«...разве можно думать, что вместе с телом образована, напр., душа того, кто во чреве запинал своего брата, т. е. душа Иакова? (Быт. 25:22). И разве вместе с телом была сотворена и образована душа того, кто, находясь еще во чреве матери своей, исполнился Св. Духа? Я разумею Иоанна, взыгравшего во чреве матери и с великим восхищением игравшего, когда голос приветствия Мариина достиг ушей Елизаветы, матери его (Лк. 1:41). Разве также вместе с телом была сотворена и образована душа того, кто еще прежде образования во чреве известен был Богу и был освящен Им еще прежде, чем вышел из чрева? (Иер. 1:5) Конечно, не без суда и не без заслуг Бог исполняет некоторых людей Святого Духа, так же как не без заслуг и освящает» (Ориген. О Началах. 1.7.4. Цит. изд. С.77).
Более эрудированный и искусный в богословии (чем судьи Пелагия в Диосполе) блж. Иероним обратил должное внимание на близость антропологии и сотериологии пелагианства и оригенизма. «Блж. Иероним неск. раз укоряет Е.<вагрия> П.<онтийского> за его учение о бесстрастии (impassibilitas) и за дружбу с прп. Меланией Старшей и Руфином (Hieron. Ep. 133. 3; Idem. Dial. contr. Pelag. Prol. 1); хотя он и называет Е.<вагрия> П.<онтийского> одним из “учеников Оригена” (In Jerem. IV Prol. / PL. 24. Col. 794), но рассматривает его скорее как скрытого пелагианина, чем оригениста» (Дунаев А.Г., Фокин А.Р. Евагрий Понтийский. Православная энциклопедия. Т.16. С.557-581). Что и указывало на то, что отвержение отдельных ересей Оригена далеко не исключает осознанную или неосознанную рецепцию других. В частности, несмотря на то, что теория предсуществования была заменена в церковной антропологии теорией креационизма, сама по себе оригеническая идея «достоинства благодати», увы, прижилась в ней (а именно, в концепции синергии), хотя она, несомненно, не менее ложная и оппозиционная учению Апостола , чем идея предсуществования. «Утверждения Целестия, будто каждый может иметь все добродетели и благодатные дары, Пелагий объяснил так: Бог дает достойному, как ап. Павлу, все благодатные дары, – и собор [в Диосполе 415 г.] признал такое объяснение согласным с верованием церкви [August. de gest. Pelag. c.14]» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья I / Православное обозрение. М., 1866. Т. 19. С. 401).
То же самое касается догматического значения первородного греха, которое находилось у Оригена еще в зачаточном состоянии (последствия грехопадения прародителей оценивались как преодолимые сохраняющимися ресурсами самой души, а именно, силою воли и разума). Хотя Ориген толкует первородный грех в духе своего навязчивого символизма (как различную степень охлаждения божественного огня в первоначальном единстве и тождестве умов), конечный результат оказывался одного рода не только с пелагианским (т.е., несомненно, лжехристианским), но не находился в противоречии и с синергианским (т.е. церковным, считающимся православным) именно по причине того, что «православная» теория креационизма не преодолевает до конца ложных эллинистических принципов антропологии Оригена. И именно по этой причине Пелагию и его сторонникам (в частности, Целестию на Карфагенском соборе 411 г.) неоднократно удавалось оправдываться после своих соборных осуждений и на самих соборных прениях постоянно приводить тот аргумент, что отстаиваемая ими позиция имеет хождение в Церкви и не считается ложной, потому что это была как раз позиция умеренного оригенизма. «[Карфагенский епископ] Аврелий велел прочитать это положение [“грех Адама повредил только ему, но не человеческому роду”]. Целестий сказал в объяснение его: “Сомнительно, есть ли наследство греха (tradux peccati); я слышал об этом различные взгляды от самих священником церкви”». «Аврелий, как председатель собора, выступил на средину, сам объяснил слово “до падения” и обратился к Целестию с вопросом: утверждает ли он, что некрещенные дети находятся в том же состоянии, в каком был Адам до падения, или признает и их виновными в преступлении божественной заповеди? – Целестий не дал прямого ответа на этот вопрос, но повторил только свое прежнее объяснение, что о наследстве греха православные думают различно и что это составляет предмет свободного исследования» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья I. Цит. изд. С. 393). Что не просто полностью соответствовало действительности на тот момент, но, по сути, остается таковым и по сей день, потому что исторически возобладавшая в Церкви теория креационизма как раз и заключается в том, что все души творятся в том же самом состоянии, в котором была душа Адама до грехопадения.
Как проницательно отмечает Августин, говоря о креационизме (а отнюдь не оригенизме) одного из своих оппонентов: «следует быть настороже, чтобы не согласиться <…> и не поверить вместе с ним, что души производятся дыханием Бога таким образом, что не могут быть созданы из ничего. Человек, который, действительно, предполагает это, как бы сильно он ни отрицал на словах вывод, в действительности утверждает, что души имеют сущность Бога и являются Его потомками не по дару, а по природе» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 1.22). Именно так и обстоит дело с учением Оригена об «огненной субстанции» Бога и первозданных «умов», онтологическая грань между которыми оказывается размытой точно так же, как граница между природой благодати и природой воли в пелагианстве. «Итак, вот высказывания, из-за которых мы с болью наблюдали, как заросли этой ереси ежедневно распространяются и уже превращаются в целый лес: <…> что “наша победа происходит не от помощи Бога, а от свободного решения”; что, как следует из сказанного апостолом Петром о нас как о соучастниках Божественной природы [2 Петр 1. 4.], душа может быть без греха точно так же, как Бог. Эту последнюю мысль я сам читал в одиннадцатой главе книги, не имеющей заглавия или указания на автора, однако, как сообщают, написанной Целестием; там это выражено такими словами: “Разве кто-то может принимать участие в некой вещи, если он определяется как чуждый ей по состоянию и по силе?”. Поэтому те братья, которые выдвинули это мнение в качестве обвинения, поняли его в том смысле, что [Целестий] объявляет душу и Бога обладающими одной и той же природой и считает душу частью Бога; ведь они восприняли его слова так, как будто, по его мнению, душа и Бог тождественны [т.е. однородны. – А.Б.] по состоянию и по силе. В последнем же из предложенных в качестве обвинений высказываний [Целестия] сказано, что “прощение согрешающим подается не по благодати и милосердию Бога, но по заслуге и труду тех, кто благодаря покаянию сделались достойными милосердия”» (Св. Августин, епископ Гиппонский. О деяниях Пелагия. VII. Общая характеристика пелагианской ереси и итоговая классификация зачитанных на Соборе пелагианских высказываний / Рус. перевод Д. Смирнова. https://www.virtusetgloria.org). Соответственно, отдельные элементы этого неоплатонизма сохраняются и в «православном оригенизме», потому что языческий идеализм антропологии Оригена отвергается здесь недостаточно последовательно. В частности, еще одним общим знаменателем теорий креационизма и оригенического предсуществования оказывается идея «свободы воли» как абсолютного самовластия души, которая и есть та «сохраняющаяся естественная способность к участию в божественном», которой осуществляется «восстановление» души.
В Писании же (если читать его вне традиции оригенического толкования, т.е. не через призму античной «мудрости») все иначе. Здесь ветхий человек в падшем Адаме не имеет свободы воли, потому что является «рабом греха» (Ин 8:34) и не может не грешить. И новый человек во Христе не имеет свободы воли (в значении титанической «автономии»), потому что является рабом Божиим, «и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1Ин 3:9), или не может не творить Его волю. «…для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин 6:65-66). Т.е. реальный выбор, которым обладает человек, согласно Священному Писанию, это отнюдь не тот выбор гномический воли между двумя или большим количеством вариантов, как это считается в богословском волюнтаризме. Есть две природные воли, ветхого и нового человека, множество объектов выбора которых состоят из одного элемента (что в математической логике называется синглетоном). Поэтому ничего другого, кроме этого одного, соответствующего их природе, они выбрать не могут. Ветхий человек (как носитель филогенетической греховности) может выбрать только грех, ибо такова его падшая природа, непреодолимо для его воли детерминированная первородным грехом. А новый человек может выбрать только Христа, ибо благодать Божия действует не него столь же непреодолимо, как диктат падшей природы на волю каждого потомка падшего праотца. Т.е. духовный выбор осуществляется выборщиком, потому что воля как природная сила, безусловно, свойственна каждому разумному созданию. Только множество объектов этого выбора ограничено единственным числом. Поэтому ничего другого, кроме мнимого многообразия одного и то же варианта, субъект выбрать не может. «Ибо живущие по плоти [в ветхом Адаме] о плотском помышляют, а живущие по духу [во Иисусе Христе] — о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» (Рим 8:8-9).
В то время как православно-оригеническое богословское сознание исходит из догмы абсолютной волюнтаристической свободы, которую якобы никто не может нарушить: ни Бог, ни дьявол, ни какой-то еще «первородный грех». Кто хочет, тот и живет «по плоти», а кто хочет – «по духу». Как говорится, «каждый решает сам», о чем ему помышлять: о духовном или о плотском. Но, как мы видим, в реальности (а Писание – это именно описание объективной реальности человеческого бытия) это совершенно не так: «Если же кто Духа Христова не имеет», или (что то же самое) «если то не дано будет ему от Отца Моего», то таковой именно что «не может» даже этого захотеть. «Ибо Бог производит в вас и хотение, и действие по (Своему) благоволению» (Фил 2:13) о вас, а вовсе не по вашему благоволению как свободному выбору, как по инерции «высоконравственных» стоицизма и платонизма мнили Ориген, Пелагий и иже с ними эллины в овечьей шкуре.
Мнимо противоположные по предикации высказывания Апостола, т.е., казалось бы, предполагающие реальную сотериологическую силу у человеческой воли, или реальную духовную свободу (возможность самовластно выбрать или отвергнуть Христа без непреодолимого детерминизма благодати или первородной греховности) обусловлены именно тем, что выбор, который должен осуществить христианин, это выбор между двумя сингельтонами (множествами с единственным элементом), или выбор того, какой природе в себе (ветхой или новой) будет дан ход. Только и в этом случае тот или иной выбор, в конечном счете, осуществляется вовсе не мифическим самовластием, якобы существующим где-то «над» природой человека как совершенно независимый «третейский судья», но – той или иной природой, пересиливающей противоположную. Поэтому Апостол и говорит, что воля плотского (ветхого) человека «суть вражда против Бога», или воли нового человека во Христе, благодать Которого действует в тех, кому это «дано от Отца», с такой силой, что ей не может противиться не только «ветхий человек», или остающаяся плотская воля в новом человеке, но само его пресловутое «самовластие», или «выборщик». В то время как ветхий человек не имеет даже такой «свободы воли» как возможности выбора между двумя сингельтонами, потому что его гномической волей (единственной природной волей в нем) невозможно выбрать ничего, кроме греха (при всем мнимом многообразии существующих вариантов).
Основоположником этого богословского учения о «свободе воли» как самовластии души и был Ориген, по лекалам эллинистической психологии, сформулировавший в своем сочинении «О началах» те принципы волюнтаризма, которые впоследствии стали хрестоматийными для церковного сознания.
«Если же кто говорит, что внешние воздействия, вызывающие наши движения, таковы, что этим воздействиям – побуждают ли они нас к добру или ко злу – невозможно противиться, то думающий так пусть на короткое время и обратит внимание на самого себя и потщательнее рассмотрит собственные движения: тогда он найдет, что при появлении какого-либо желания ничего не делается прежде, чем не будет дано соизволение души, прежде чем лукавому наущению не будет дано согласие ума; таким образом, каждое вероятное (т.е. еще не решенное) дело, по-видимому, получает то или иное утверждение как бы от судьи, сидящего на трибунале нашего сердца, и приговор относительно действия произносится по суду разума на основании предварительно выясненных причин» (Ориген. О началах. 3.1.4. Цит. изд. С.189).
Здесь мы можем видеть всю античную наивность волюнтаризма Оригена, который не знал, что у хотения и выбора («решения судьи» – в его терминах) тоже есть своя причина (внешняя или внутренняя), которую сама воля не видит, но находится в полной уверенности того, что она является первопричиной совершаемого действия. И никто, кроме блаженного Августина, по-настоящему этого эллинистического волюнтаризма не преодолел в патристике, большинство доверились Оригену в этом вопросе как «специалисту» и «учителю». Несмотря на то, что о невозможности не грешить для ветхого человека, о диктате первородного греха Апостол говорит прямо и многократно. И все эти свидетельства Апостола Ориген отвергает, либо столь же категорично, как Пелагий, своим мнением о безусловном самовластии воли, либо путем диалектического уравновешивания противоположностей (силы воли и силы благодати или власти греха) в той умеренно-пелагианской концепции синергии, которая станет нормативной для всей патристики, кроме августианства.
«Итак, последовательность мысли показывает, что внешние воздействия не в нашей власти; но хорошо или дурно пользоваться внешними воздействиями – это в нашей власти, так как присущий нам разум рассматривает и решает, как должно пользоваться ими. Жить праведно или менее праведно – наше дело, и нас не принуждают к этому ни внешние воздействия, ни судьба, как думают некоторые» (Ориген. О началах. 1.3.5-6. Цит. изд. С. 192).
Если не знать, что это Ориген, то от Пелагия отличить невозможно. И объясняться такой consensus haereticorum (согласие еретиков) мог поздне-эллинистической «закваской» мышления того и другого, т.е. принадлежностью их к одной культуре, а не обязательно влиянием Оригена или оригенистов (например, Руфина) на Пелагия, как полагал Иероним. Пелагий, свободно владевший греческим языком, вполне мог самостоятельно сделать те же самые духовно-нравственных выводы из учения платонических стоиков и стоических неоплатоников, что и Ориген, без его непосредственного воздействия. Но, как бы то ни было, само по себе согласие волюнтаризмов Оригена и Пелагия было очевидным, и поэтому оно не осталось незамеченным для ума Иеронима. Но – осталось незамеченным для церковного большинства, потому что этот гуманистически-победоносный (как «нравственно-метафизический» категорический императив Канта) слоган оригенического волюнтаризма («в нашей власти жить праведно») в дальнейшем попадает во все «точные изложения православной веры», словно это взято из Священного Писания.
Далее Оригену, как и Пелагию, необходимо было как-то согласовать свой языческий гнозис о божественной свободе разумной твари с многочисленными свидетельствами Священного Писания, говорящих о непреодолимом детерминизме природной воли ветхого и нового человека.
«Теперь рассмотрим то, что утверждает Иезекииль, когда говорит: “и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим и соблюдали уставы Мои”. Если Бог, когда хочет, исторгает каменное сердце и дает плотяное, чтобы исполнялись повеления Его и сохранялись заповеди, то оставить порок, по-видимому, не в нашей власти, ибо отнятие каменного сердца означает, кажется, не что иное, как то, что Бог отсекает у кого хочет порок, каким кто-нибудь ожесточается; равным образом вложение плотяного сердца, чтобы человек ходил в повелениях Божьих и хранил заповеди Божьи, означает не что иное, как то, что человек делается покорным, не противится истине и совершает добродетельные дела. Итак, если Бог сам обещается сделать это и прежде, чем сам он отнимет каменное сердце, мы не можем освободиться от него, то, следовательно, оставить порок – не в нашей власти, но во власти Бога. И опять, если не от нашей деятельности зависит, чтобы в нас было плотяное сердце, но это есть дело одного только Бога, то и добродетельная жизнь, по-видимому, будет не нашим делом, но всецело делом благодати Божьей. Так говорят те, которые желают доказать на основании свидетельства божественного Писания, что ничего не находится в нашей власти. Но мы ответим, что эти слова Иезекииля должно понимать не так, а следующим образом <…> божественное слово обещает приступающим к нему исторгнуть (у них) каменное сердце, но, конечно, не у тех, кто не слушает его, а у тех, кто принимает заповеди учения его, как и в Евангелиях мы находим, что больные приступали к Спасителю, прося о получении здоровья, и таким образом исцелялись» (Ориген. О началах. 1.3.15. Цит. изд. С. 218-219).
Иными словами, в античную голову Оригена даже не приходит мысль (хотя Апостол и Сам Христос специально касается этого момента и разъясняют его) о том, что те, кто «приступают к Спасителю, прося» Его о чем-то душеспасительном для них, приступают именно потому, что «никто не может прийти ко Мне, если его не привлечет» благодать, т.е. если сперва Бог не пресуществит саму природу его сердца, воскресив его от духовной смерти первородного греха. И именно отрицание этой духовной смерти является «альфой и омегой» антропологии Оригена, становящейся «началами» той антропологии, которая считается ортодоксальной, хотя в основе ее лежит эллинистическая философия и поэтому вольная или невольная полемика с Писанием, «потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим 8:7). Отсюда выраженное пелагианство этой антропологии и сотериологии, инверсия причинно-следственной связи между действиями воли (якобы причины) и благодати (якобы следствия), в основе которой – лжехристианская теория заслуг Оригена.
«…промысл Божий, справедливо управляющий всем, также и бессмертными душами управляет по справедливейшим распоряжениям, сообразно с заслугами и виновностью каждого: ведь домостроительство о людях (dispensatio humana) не заключается в пределах жизни этого века, но степень предшествующих заслуг всегда служит основанием будущего состояния и, таким образом, бессмертным и вечным судом правды и управлением божественного промысла бессмертная душа приводится к высшему совершенству» (Ориген. О началах. 1.3.17. Цит. изд. С. 228).
Т.е. «заслуга» в языческом сознании Оригена – это единственный принцип «справедливости» как одной из главных добродетелей платонизма. Что, несомненно, противоположно Христианству, основным принципом которого является принцип благодати как безвозмездного, т.е. именно что совершенно незаслуженного дара божественного милосердия. «Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (Рим 11:4-6).
И Августин – это тот, кто поверил Апостолу, а не Оригену. Потому что все то, что Августин написал против пелагианства, добившись общецерковного осуждения этого лжеучения, в вопросе отношения воли и благодати должно быть экстраполировано на аналогичное учение Оригена, лежащее в основе той концепции синергии (воли и благодати), которая была опрометчиво сочтена соответствующей Священному Писанию. В лучшем случае после осуждения пелагианства стоические идеи оригенического волюнтаризма (тождественные пелагианским) были смешаны с апостольскими (тождественными августианским) идеями самовластия благодати как предопределения спасения избранных, отчего богословская антропология и сотериология стали неизбывно противоречивыми и двусмысленными, потому что в церковной теории креационизма и синергии были соединены не взаимодополняющие, но взаимоисключающие доктрины.
Александр Буздалов

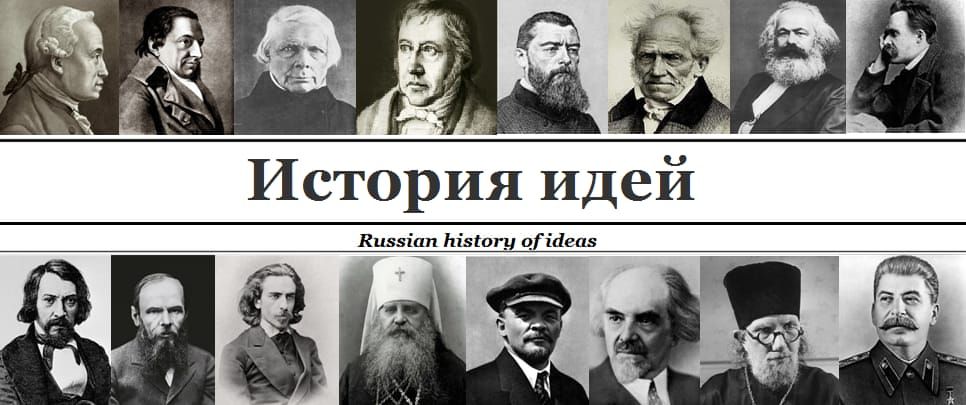




Комментарии
Прот.Константин,Грузия.
2025-03-01 01:50:51
Здравствуй Александр! Ваш подход как раз ответил на мой давний вопрос,: цитируя Св. Отцов о том что только праведных вывел из ада, недоумевал когда оппоненты со своей стороны тоже цитировали тех же св. Отцов. Полагаю ответ в соборных определениях Церкви. Но больно когда этот подход не понимается и принимается от ближних отцов.Точно, оригенизм и пелагианизм сказали свое слово. А православные молчаливо склоняются перед идолом елинизма.
Буздалов А. - прот. Константину
2025-03-01 02:32:29
Здравствуйте, о. Константин. Да, к сожалению, св. Отцы напутали кое-что, поэтому и современные путают.