Сonsensus haereticorum. Часть 2
Дата создания:

Лаокоон и его сыновья — скульптурная группа эпохи эллинизма работы греческих ваятелей родосской школы: Агесандра, Полидора и Афинодора. Мраморной копия второй половины I века до н.э. Музей Пио-Клементино, Ватикан.
Поскольку пелагианство осуждено на Карфагенских соборах 411-418 гг. и на последующих Вселенских с позиций августианства, традиционное обоснование установившейся в качестве канона концепции «синергии благодати и воли» тем, что в ней, дескать, уравновешены «крайности» учений Пелагия и Августина, является совершенно неприемлемым.
«Два крайние взгляда [учения о свободе человеческой воли] Пелагия и Августина, раскрывшиеся в зависимости один от другого, уясняют себя взаимно и вместе определяют ту золотую средину, которая принадлежит истине православия» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья II / Православное обозрение. М., 1866. Т. 20. С. 136).
«Золотая середина» между ересью и тем ортодоксальным учением, в отношении которого первое оценено Церковью как ложное, по определению, оказывается смешением истины и лжи. Поэтому Августин справедливо рассматривал продолжение полемики с ним со стороны южно-галльских синергиан после Карфагенского собора 418 г., осудившего пелагианство, как реваншизм с его стороны, с той лишь разницей, что выражено оно было теперь как раз более «гармонически». Что только усиливало дежавю у Августина, потому что и сам Пелагий не раз шел на уступки и отказывался от некоторых радикальных своей идей, т.е. был готов к тому компромиссу, который стал считаться «православной синергией», и даже добивался с помощью этого маневра реабилитации от Рима (не говоря уже о Востоке, где его сразу оправдывали как «истинно-православного», как это произошло на соборах в Диосполе и Иерусалиме в 415 г.). Но суть была в том, что волюнтаризм галлов был не пелагианским (как был уверен Августин, видя у своих новых оппонентов все характерные признаки известного ему, как пять пальцев, учения Пелагия), но оригеническим, потому что во главе галльской школы стоял Иоанн Кассиан, изгнанный из Александрийской Церкви вместе с другими умеренными оригенистами. И объясняется все это тем, что между оригенизмом и пелагианством, как было показано в первой части этой статьи, в учении о природе разумной души в ее отношении к благодати существовал заочный консенсус. Соответственно, волюнтаристическую концепцию синергии Кассиана правильнее характеризовать как полуоригенизм, а не полупелагианство, или как «православный оригенизм».
Апостольский детерминизм августианства как противоположность волюнтаризма эллинистического (оригеническо-пелагианского) типа – это учение не о том, что у человека вообще нет свободы воли, но о том, что духовные силы, действующие на разумное творение, превосходят силу воли и поэтому предопределяют выбор, который делает воля. Такова сила «закона греховного» (Рим 7:23), детерминирующего волю «ветхого человека» (Рим 6:6); и такова сила Христовой благодати, детерминирующей воля «нового человека» (2Кор 5:17). «”Свобода не грешить потеряна в наказание за грех” [Opus imperfect. I. 104], “в наказание за грех грешит каждый против своей воли (invitus)” [Opus imperfect. IV. 190]. Так как воля согрешила, то в грешнике явилась “суровая необходимость иметь грех (dura necessitas peccatum habendi)” [De perfection. jnstit. homin. 4]; эта необходимость продолжится до тех пор, “пока – некогда слабость будет совершенно исцелена и наступит добровольная и блаженная необходимость (voluntaria et beate necessitas) ни разу не грешить” [De perfection. jnstit. homin. 4]. Последнюю необходимость может дать только Сын Божий чрез непреодолимо (insuperabiliter, omnipotentissime, invictissime, indeclinabiliter) действующую благодать Св. Духа» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья II. Цит. изд. Т.20. С.137). И то, что волюнтаризм Оригена и Пелагия не допускает того, что эти силы (первородного греха как закона ветхой природы в падшем Адаме и божественной благодати как закона новой человеческой природы во Христе) могут значительно превосходить силу души, лишая ее самовластия как первопричины действий, обусловлено именно поздне-эллинистическим складом их мышления, стоическо-платонической идеализацией человека как титана воли и нравственности в качестве «эманации Мирового Ума».
Другими словами, апостольское Христианство отличается от синергианства (полуоригенизма) и пелагианства (неооригенизма) критерием, или концепцией свободы, которой обладает человеческий субъект. Пелагианство, как и оригенизм, отстаивает непреложную свободу самоопределения человека, равную возможность грешить или не грешить, спастись или погибнуть. Синергианство (умеренный оригенизм) отчасти сужает диапазон этой свободы, ограничивая ее со стороны необходимых для спасения добродетелей, признавая недостаточность человеческого самовластия для этого и насущную потребность в «помощи благодати» (что, однако, допускал и Пелагий в собственном толковании). Тем не менее пелагианская возможность двойного самоопределения здесь сохраняется: каждый, если захочет, может как погибнуть, так и спастись. Христианство (Апостола и Августина) ограничивает эту свободу еще больше, констатируя у ветхого человека «самовластие» только для греха. Это то, что называется «рабством греху» в Евангелии (Ин 8:34) и что в информатике называется одноэлементным множеством. У падшего человека есть возможность выбрать только грех. И он ее сполна осуществляет, добровольно греша в течение всей своей жизни. И никак иначе самоопределиться он не может, потому что сама его ветхая природа греховна, будучи произведена на свет грехопадением прародителей, совершивших тектонический сдвиг человеческого естества, извративших преступлением заповеди свою природную волю настолько, что грех стал для нее непреодолимо вожделенным. Выбрав смерть, падший Адам аннигилировал саму возможность для человеческой природы самоопределяться к вечной жизни. Выбрав дьявола и отвергнув Бога, праотец человеческого рода внес этот свой жизненный выбор в генетический код своего естества, с которым были обречены рождаться все его потомки. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков» (Рим 5:12). Поэтому двойного самоопределения здесь быть уже не может на субстанциональном уровне. Спастись духовно умершему в первородном грехе можно только волею Бога Живаго, только самовластием Всемогущего, Который силен преодолеть законы существования природы падшего человека. Или – только божественным предопределением, потому что все, что делается Богом во времени, делается Им по Его предвечному решению. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все по изволению воли Своей» (Еф 1:3-11). Спасти погибшего властен Один только Бог («Они ожили» [от произведенной грехом Адама смерти души] «и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр 20:4)). А «ветхий человек» (Рим 6:6), будучи априори духовно мертв, может только истлевать страстями, непрестанно умирать душою и телом («Прочие же из умерших» [в первородном грехе] «не ожили» (Откр 20:5)).
Теперь необходимо показать, как соотносятся между собой природы «ветхого» и «нового» человека. Потому что именно неверное решение этого вопроса во многом и определяет концепцию «свободы воли» в православном оригенизме и пелагианстве.
Благодать Крещения восстанавливает для воли свободу духовной жизни, открывая возможность спасаться, но при этом в христианах сохраняется и способность грешить. Совершенная безгрешность христиан и земной Церкви неслучайно становиться одной из навязчивых идей Пелагия как объективного идеалиста «от христианства». Поскольку действие первородного греха как закона существования человеческой природы после грехопадения отрицалась в пелагианстве, то святость становилась здесь тем же «категорическим императивом нравственности». Если даже без благодати можно было при непреклонном понуждении себя исполнять весь Закон и тем достигать спасения, то «с помощью благодати Евангелия» тем более можно и нужно было быть без греха.
«Мы утверждаем [говорит Юлиан], что и в грешнике остается та же природа свободной воли, которая дала ему возможность уклониться от праведности, и чрез которую, значит, в свою очередь, он может отстать от греха: свободная воля и после грехов остается такою же свободною волею, какою была прежде грехов [Opus imperfect. 1. 91. 96]» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья II. Цит. изд. Т.20. С.135).
Что очевидным образом противоречит Евангелию и Апостолу, говорящих о безысходном «рабстве греху» всего ветхого человечества и единственной возможности освобождения от «от работы сея вражия» (Покаянный канон) божественной благодатью. «Свободная воля тогда истинно свободна, когда не служит порокам и грехам, такою она дана Богом, и потерянная собственным повреждением, может получиться только от Того, Кем некогда была дана, – потому говорит Истина: аще Сын свободит вы, воистину свободни будете [August. De civitat. Dei. XIV, II. Cp. Contr. duas epp. Pelag. 1, 2]» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья II. Цит. изд. Т.20. С.138).
Однонаправленное «самовластие» (мнимая «свобода» только для греха) «ветхого человека», казалось бы, раскавычивается в «новом человеке» (2Кор 5:17), становясь подлинной свободой воли, раз выбор теперь осуществляется уже из реальной альтернативы: добродетели и греха, жизни в Боге и смерти с дьяволом. Но суть в том, что такое представление тоже еще находится в парадигме эллинистического волюнтаризма. На самом деле, природная воля «нового творения во Христе» тоже однонаправленная, потому что такова она в Самом Христе как новом Адаме. «Благодать действует непреодолимо, хотя согласно с законами человеческой жизни; потому ее всемогущее влияние на человека, независимое от восприемлимости его, не отзывается в чувстве насилием, но является как будто вполне естественным делом, и ее воля [т.е. Божья. – А.Б.], не ожидающая воли человека, незаметно для него самого, становятся как будто его собственною личною волею. “Бог, – говорит бл. Августин, – избирает одних по Своему милосердию и сообщает им благодать Свою, которая действует на них непреодолимо, но вместе соответственно их разумному существу, так что они не могут не следовать ей” [De diver. question. ad Simplician. lib. I, qu 2]» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья II. Цит. изд. Т.20. С.138). Если волей «ветхой человека в падшем Адаме» движет врожденная греховность, то волей «нового человека во Христе» движет божественная благодать. Первая понуждает человека только грешить, вторая – только жить праведно, совершать дела веры. Но поскольку оба эти двигателя воли теперь существуют одновременно в одном субъекте, возникает иллюзия того, что это природная амплитуда действия самой воли, или ее пресловутая «автономия». Однако в Крещении воскрешается только душа, или «внутренний человек» (Рим 7:22), что в Откровении названо «первым воскресением» (Откр 20:5). На природу тела «нового человека» благодать еще не действует аналогичным преображением, что произойдет только во втором, всеобщем воскресении мертвых в новых, нетленных телах, («доколе не окончится тысяча лет царствования Христа» (Откр 20:4-5) как нового Адама, т.е. царствования Его благодати в «новом человечестве» Церкви). Поэтому после второго воскресения природная воля нового человека (спасенного, или обоженного во Христе) будет уже не просто однонаправленной, т.е. вожделеющей одну только добродетель, но не будет иметь противодействия со стороны «закона греховного» (Рим 7:23), потому что благодать станет единственным двигателем души и тела, а не одной только души, как во время исторической жизни («тысячи лет» – в терминах Откровения). «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1Кор 15:28).
Отсюда общий знаменатель оригенизма и пелагианства – это отрицание того, что разумная душа с ее природной волей («практическим разумом» – в терминах кантианского стоицизма) нуждается в воскрешении благодатью. Сonsensus haereticorum оригенизма и пелагианства – их согласное учение о сохранении душой в состоянии грехопадения достаточной естественной силы для духовной жизни, т.е. для спасения. «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи» (Кол 2:8-13). Поскольку «плотью» Апостол называет всего «ветхого человека» (а не одного только смертное тело в противоположность бессмертному духу, как мнят эллинистические умы Оригена и Пелагия), постольку «совлечение греховного тела плоти» означает освобождение «тела души» от тотального господства первородного греха, или «воскресение верою в силу Бога», т.е. в силу Христовой благодати. Тогда как «обольщение философией по стихиям мира сего», или «по преданию человеческому», таких богословствующих стоиков и платоников, как Пелагий и Ориген, заключалось в том, что, во-первых, они отвергали саму необходимость воскрешения души и исповедовали достаточность исполнения заповедей Ветхого закона для спасения. Поэтому (или во-вторых) обретение «полноты» благодати во Христе прочитывалось ими как возможность для христиан тоже «иметь полноту» Его благодати в себе, откуда они делали вывод о возможности для каждого стать полным аналогом Христу в плане святости жизни. Но в том-то и дело, что, согласно Апостолу, хотя первородный грех и прощается крещенному, его действие через «греховное тело плоти» сохраняется. Христианин в отличие от Самого Христа, имеющему «полноту силы Бога», получает только возможность действенно противостоять «закону греховной плоти» силою благодати, воскрешающей его душу от духовной смерти первородного греха. Потому что если по «внутреннему человеку» он «новый», то по «внешнему» – по-прежнему «ветхий». «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного» (Рим 7:22-23). А если бы весь человек, и душою, и телом, становился «новым» во Христе, то сами тела христиан были бы нетленными уже в этой жизни, и они не могли бы умереть. И им не с чем было бы в себе «сражаться до крови, подвизаясь против греха» (Евр 12:4). Но поскольку душа воскрешена благодатью к новой жизни по Духу, а в бренном теле продолжает действовать «закон греховный», становится возможной и духовная брань христианина со своей «греховной плотью», или «умерщвление» «внешнего человека» – «внутренним», одним словам, аскетическая жизнь «новой твари во Христе».
Соответственно, заимствование концепциями креационизма и синергии идеи сохранения душою способности к духовной жизни после грехопадения, пусть и с оговоркой необходимости для этого «помощи благодати», является выраженными симптомами их умеренного оригенизма и/или пелагианства, потому что и тот, и другой, повторим, тоже очень даже допускали эту оговорку по причине ее неопределенности и свободы для толкования (в частности, для толкования в духе того же пневматологического монизма неоплатоников, т.е. в парадигме однородности воли и благодати, «духовно-огненной» природы души как «эманации божественного сверхогня», «синергии» души и Бога как подобного с Подобным, или свободного со Свободным). В то время как в учении Апостола то, что в теории синергии и креационизма считается естественным состоянием воли (свобода как способность выбора между двумя альтернативами) появляется только у «нового человека», и отсутствует у «ветхого». И объясняется такой перекос оценки природных свойств «ветхого человека» даже в патристике именно тем, что здесь сохраняются отдельные аспекты идеалистической («обольстительной») философии античности («по стихиям мира»), и поэтому падшее состояние души здесь тоже расценивается как обладающее первозданными силами (в достаточной для духовной жизни мере), потому что отрицается влияние первородной греховности непосредственно на душу и признается такое действие первородного греха на нее только опосредованно через греховную плоть. Т.е. неосознанно отрицается именно то, что «в Нем вы совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Кол 2:12), потому что таковая духовная жизнь считается здесь присущей душе априори, «умирающей во грехах» только после добровольного совершения их под пагубным влиянием греховного тела.
«”Греховного”, – говорит, – “[совлеченения] тела плоти”, т. е., грехов, сделанных во плоти»; «”простив нам, – говорит, – все грехи”. Какие? Те, которые произвели смерть» (свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание Колоссянам. 6.2 / Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1905. Т. 11, Кн. 1, Беседы на послание к Колоссянам, с. 406).
Действительно, «совлечение греховного тела плоти» означает оставление христианами греховной жизни «по ветхому человеку», «в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие» (Еф 2:2-3), «не ожившие в первом воскресении» (Откр 20:5). Но поскольку речь в Кол 2:11 идет о таинстве Крещении, то в нем «совлекается», прежде всего, первородный грех, который является прирожденным для каждого, т.е. который совершен именно что не «во плоти» самого потомка ветхого Адама, но априори присущ его ветхой душе по ее происхождению от души падшего Адама («и были по природе чадами гнева, как и прочие»). В чем и сказываются пережитки эллинизма в патристическом креационизме и синергианстве, где понятие «греховной смерти» души тоже (как и в пелагианстве) понимается только как духовное омертвение каждого человека, «грядущего в мир», по мере совершения им личных грехов в сознательном возрасте, и что предполагает все то же оригеническое отрицание духовного умирания всех в грехе Адама, о котором в трубу архангела трубит Апостол в каждом своем Послании. Т.е. «ветхий человек», по Апостолу, не потому нуждается в духовном воскрешении во Христе, что он погубил себя личной греховной жизнью, «исполняя желания плоти и помыслов», но (наоборот) он потому и «исполнял желания плоти и помыслов», что был «плотским» по самой «ветхой природе» не только своего тела, но и своей души, духовно (а не только физически) умерев в грехе первого Адама, и поэтому априори (с первого дня рождения и до совершения личных грехов) нуждается в воскресении Крещения, чтобы получить саму возможность жить жизнью Христова Духа.
Поэтому аналогичным образом пелагиански (или оригенически, что одно и то же) перевернутой в теории синергии оказывается и причинно-следственная связь между действием благодати (как закона жизни человеческой природы в Христе как новом Адаме) и действием воли.
«…”в Нем вы и совоскресли верой в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых”. Хорошо сказал, – потому что все от веры. Вы поверили, что Бог может воскресить, – и через это воскресли» (свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание Колоссянам. 6.2. Цит. изд. С. 406).
Апостол, безусловно, сказал «добро зело», потому что через Апостола говорит Бог. Вот только экзегет Апостола оказался не так хорош. Потому что сказанное Апостолом противоположно сказанному в толковании Златоуста, ибо Апостол говорит: «вы воскресли (силою Бога) – и потому поверили», а не: «вы поверили (силою воли) – и потому воскресли в силу Бога», т.е. довели естественную силу веры своей души до «полноты» веры и спасения со Христом с «помощью благодати».
Будучи богоподобной по своим свойствам, душа в оригенизме (как христианизированном эллинизме) сама является источником абсолютной свободы и не может быть детерминирована первородным грехом, действующим как закон ее существования. Что сближает антропологию оригенизма с пелагианством, которое тоже стояло на концепции воли как естественной благодати, или природной силы души, которой при достаточной силе желания можно жить безгрешно. И поэтому Пелагий вообще не понимал, о какой еще «благодати» говорит Августин, раз она и так уже присуща душе по самой ее природе. Поэтому «помощь благодати» Пелагий толковал примерно в том же значении, которое в менее очевидной форме (или в более двусмысленной) содержится и в толковании Златоуста, т.е. в значении «восполнения полноты», «усиление ослабленного», «восстановление поврежденного», «нагревания теплого» и т.д. По этой же причине «пелагиане различали вечную жизнь или вечное спасение и царство небесное: последнее, как высшая степень блаженства, доступно лишь крещеным, а вечная жизнь доступна и благочестивым язычникам, равно как и невинным младенцам, умершим без крещения. Отсюда пелагиане говорили, что крещение необходимо младенцам для получения царства небесного, но не говорили, что некрещеные младенцы наследуют осуждение. Так и Пелагий разъяснял, утверждая, что он знает, куда некрещеные дети не идут, т. е. не идут в царство небесное, а куда идут, не знает, т. е. не знает, в чем будет состоять та низшая степень блаженства, которую другие пелагиане называли вечною жизнию [De ресс. orig. n. 23]» (Кремлевский А. История пелагианства и пелагианская доктрина. Казань, Типо-лит. Казан. ун-та, 1898. С. 100-101). Именно это учение Пелагия было осуждено в 3-м определении Карфагенского собора 418 г., не вошедшем в свод канонических правил Церкви, потому что это вступало в противоречие и с синергианским (умеренно-оригеническим) волюнтаризмом, где грех понимался аналогично пелагианской трактовке, т.е. как исходящий от самовластия человеческого деятеля, как обусловленный исключительно свободным решением субъекта.
«Ибо если и ненавидимый помысл господствует и обладает умом – не противоречу, что случается и сие, – однако это не есть остаток внутри нас греха Адамова, но преступления по крещении. <…> Две причины действия в нас зла, и обе они зависят от нас самих…» (преп. Марк Подвижник, Слово 4-е / Преп. Марк Подвижник. Аскетические творения. 2-е изд. Сергиев Посад, СТСЛ. 2013. С.93-94, 128). «
На прямой вопрос «согрешил ли и Павел по Крещении, потому что невольно подвергался действию греха? Ибо говорит: “вижду же ин закон... противувоюющ закону ума моего”», Подвижник отвечает:
«святой Павел говорит не о себе после Крещения, но ставит себя на место неверных и некрещеных иудеев» (преп. Марк Подвижник, Слово 4-е. Цит. изд. С.94).
Но ведь если бы Апостол говорил не о себе после Крещения, то чему бы он тогда противопоставлял в «том же самом» себе «иной закон» («но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего» (Рим. 7:23))? Единственное разумное объяснение – это то, что речь у Апостола идет именно о крещенном человеке, в котором теперь происходит борьба двух природных «законов». «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим 7:24-25). Истреблено господство греха над волей (это истинно у Подвижника), но это потому, что благодать Христова насаждает свое господство в душе, рожденной от Духа в Крещении. Но то, что помыслы остаются и грехи продолжают совершаться, и показывает, что «закон греховный» не истреблен в ветхой природе плоти и продолжает производить «противное Духу». «Если же делаю то, чего не хочу [по внутреннему человеку, или закону ума Христова], уже не я делаю то, но живущий во мне [по ветхому человеку] грех» (Рим 7:20). Поэтому ни в плане личной ответственности, ни в плане детерминизма (первоисточника) этих преступлений ничего не меняется. Потому что природный грех «ветхого человека» – это и есть причина личных грехов каждого, точно так же как природная праведность «нового человека во Христе» становится его заслугой, хотя и совершается силою благодати, а не воли.
При этом оригеническая аргументация преп. Марка (объяснение греховных помыслов одним только нерадением каждого) снова оказывается одного рода с пелагианской доктриной. Ибо, строго говоря, его толкование Рим 7:23 попадает под 4-е правило Карфагенского собора («Кто говорит, будто благодать <…> не сообщая нам любви к добру и сил совершать его, – тот да будет анафема; ибо апостол говорит, что <…> равно составляет дар Божий знание заповедей и любовь, располагающая к исполнению их…» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья I. Цит. изд. Т.20. С.29), потому что «нахождение удовольствия в законе по внутреннему человеку», которым в толковании Марка является «неверный или некрещенный» (т.е. «ветхий человек»), означает «естественную» в человеке любовь к заповедям без благодати. Как это толковали и Пелагий с Целестием, за что и были осуждены в 4-е правиле Карфагена.
«...ибо волю нашу и по Крещении ни Бог, ни сатана не понуждает» (преп. Марк Подвижник, Слово 4-е. Цит. изд. С.90),
т.е. как не понуждают и до Крещения. Ни благодать не приводит в действие волю «нового человека», ни бесы – волю «ветхого человека» посредством «закона греховного» (действия первородного греха], т.к. воля равным образом свободна до и после Крещения для соработничества с Богом или с дьяволом. Что тождественно волюнтаризму пелагиан, отрицавших влияние первородного греха на природную волю.
«...ибо или по Крещении мы предали себя какому-нибудь худому помыслу до исполнения его самым делом, а посему, хотя и ненамеренно, сделались виновными, или по собственной воле держим в себе некоторые семена зла, почему и утверждается в нас лукавый; <...> А посему я даже и это не называю Адамовым грехом, но более грехом соделавшего злое и содержащего семена его. Если же скажешь мне, что и обе эти (причины) предварил помысл, и изыскиваешь, кто виновен в сем случае, я отвечаю тебе: "Ты сам как имеющий власть очистить его (то есть помысл) в начале первого приражения и не очистивший"» (преп. Марк Подвижник, Слово 4-е. Цит. изд. С.100).
Т.е. прародительский грех, настаивает Подвижник, не является причиной возникновения греховных помыслов в их потомках, но каждый производит их собственным самовластием. Что находится в очевидном противоречии с учением Апостола о первородном грехе: «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим 7:20). Поэтому дальнейшие слова Послания («Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом» (Рим 7:24-25)), означают, что продолжающееся и по Крещении действие «закона греховного» посредством присущих телу страстей побеждается силой Христовой благодати, а не силой воли, как толкует Подвижник по традиции оригенического волюнтаризма, который в этом аспекте совпадает с учением пелагиан.
«Это подтверждается тем, что говорит тот же апостол: “Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его” (Рим 6:12). Действительно, он показывает, чтó есть похоти, но если мы не будем повиноваться им, то не позволим греху царствовать в нас. Но поскольку эти похоти рождаются от смертности тела, которую мы несём от первого греха первого человека, и в ней мы рождаемся плотски, постольку им будет положен конец, лишь когда мы с воскресением плоти заслужим обещанного нам преображения; тогда наступит совершенный покой, и мы утвердимся на четвертой ступени. Покой же будет совершенным потому, что в нас не останется ничего, чтобы противиться Богу. Это то, о чем говорит апостол: “...тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас” (Рим 8:11). Так вот, свободная воля была вполне в первом человеке, в нас же прежде благодати нет свободной воли для того, чтобы мы не грешили, но есть лишь для того, чтобы мы не хотели грешить. Благодать же делает так, что мы не только хотим, но и можем поступать праведно, не благодаря собственным, но с помощью Избавителя, Который даст нам полный покой в воскресении, и этот совершенный покой будет следствием благой воли» (Августин Гиппонский, блж. Рассуждения о «Послании к Римлянам» / Перевод с латинского, вступительная статья и примечания В. М. Тюленева / Библия и христианская древность (научный журнал Московской Духовной Академии). 2019, №4. С. 38-39).
Хотя процитированное сочинение принадлежит к раннему периоду Августина (датируется 394 г.), в котором еще сохранялось влияние того же позднего эллинизма, который лежит в основании оригенизма (поэтому, например, Августин допускает оговорку «заслуженного преображения») уже здесь видны существенные отличия его толкования Апостола от восточной (православно-оригенической) традиции. Во-первых, это касается того, что воля ветхого человека полностью подчинена похотям плоти в качестве наказания за первородный грех. И, во-вторых, это то, что действие «похотей, рождаемых смертностью тела», продолжается и по Крещении (что категорически отрицает Марк с позиций православного оригенизма). В дальнейшем (а именно, во время полемики с пелагианами и синергианами, которые суть те же православные оригенисты) Августин скорректирует свое раннее (еще несовершенное, т.к. рудиментарно эллинистическое по идеологии и поэтому местами полупелагианское) толкование, осознав, что, по Апостолу, благодать производит в «новом человеке» само желание и любовь к исполнению заповедей (Фил 2:13; 4 пр. Карфагена 418), точно так же, как первородный грех как закон существования ветхой природы производит греховные похоти. «Он шаг за шагом ведет нас к любви Божией, которую, как он говорит, мы получили по дару Духа; он указывает, что все то, что мы можем вменять себе, следует вменять Богу, Который удостоил дать нам благодать через Святого Духа» (блж. Августин Гиппонский. Рассуждения о «Послании к Римлянам». Цит. изд. С.40).
Действие благодати в избранных потому и должно быть непреодолимым (чтобы Богу можно было их спасти), что таким же непреодолимым является действие «закона греховного» в «ветхом человеке». И поскольку действие благодати в избранном непреодолимо как «закон духа жизни в Иисусе Христе» (Рим 8:2), то покорение воли благодати тоже является заслугой благодати, а не самой воли. Соответственно, и «похоть» ветхой плоти побеждается в избранном благодатью, а не самовластием воли, как еще полупелагиански толковал сам Августин в 394 г. по инерции эллинистической философии: «если мы не будем повиноваться им, то не позволим греху царствовать в нас». Вот от этого волюнтаристического «если» как инородного здесь элемента, как и от «заслуженного преображения», Августин и отказался позднее, чем довел свое толкование Апостола до совершенства. Ибо если благодать в избранном действует по предопределению, то и ее победа над похотью тоже предопределена, потому что, будучи Христовым, избранный не может «жить по плоти», несмотря на ее противодействие в себе, «потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Рим 8:2). Поэтому, подчиняясь благодати, воля избранного действует не по свободе как «автономии» (в либертарианском понимании эллинизма, т.е. как неотъемлемой от души возможности самоопределения), но по необходимости новой природы, в которой царствует Христова благодать. «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим 3:11). Т.е. Он Сам сделает так, что вы будете повиноваться Ему и не позволите греху царствовать в себе, предопределив это «прежде создания мира», предведая, что весь мир разумных тварей, будучи предоставлен себе (своей «автономии воли»), погибнет в полном составе. «Итак, в человеке, в настоящем состоянии, вовсе нет свободы? Есть свобода, отвечает бл. Августин, но только для того, чтобы быть в состоянии грешить: “и греху нельзя служить без известной свободы, потому люди свободны от праведности только по свободной воле, а свободными от греха становятся только по благодати Спасителя” [Opus imperfect. I; 94], т.е. люди стали совершенно неспособными к добру только по свободной воле, а способными к нему становятся только по благодати» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья II. Цит. изд. Т.20. С.138-139). Т.е. свобода есть, но ее концепция у Апостола («где Дух Господень, там свобода» (2Кор 3:17)) отличается от эллинистической концепции свободы как «автономии воли», или «самовластия», которая от Оригена перешла в богословие синергианства, вопреки ее осуждению на Карфагенских соборах 411-418 гг.
Другим (помимо канонов Карфагена) подтверждением этому служат примеры адекватного толкования Апостола восточной патристикой IV-V в., которые становятся возможными именно потому, что влияние оригенизма здесь незначительно либо вовсе отсутствует (как у позднего Августина). И поэтому ничто на уровне идеологии не мешает читать Апостола без посредников позднего эллинизма как «стихий мира». «…зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху (Рим 6:6). Но скажет кто-нибудь: почему душу называешь телом тьмы, когда она не произведение тьмы? — Обрати при сем внимание, и выразумей правильно. Как повседневную одежду, которую ты носишь, приготовил другой, а ты в нее одеваешься; равно и дом строил и сооружал иной, а ты в нем живешь: таким же образом и Адам, преступив Божию заповедь и послушав лукавого змия, продал и уступил себя в собственность диаволу, и в душу, — эту прекрасную тварь, которую уготовал Бог по образу Своему, — облекся лукавый, как и Апостол говорит: “совлек начало и власти», победил их на кресте” (Кол. 2, 15). Ибо для того было и пришествие Господа, чтобы изгнать их и возвратить Себе собственный Свой дом и храм — человека. Посему-то душа называется телом лукавой тьмы, пока в ней пребывает греховная тьма; потому что там живет и содержится она в продолжение лукавого века тьмы, как и Апостол, упоминая о теле греховном и о теле смерти, говорит: “да упразднится тело греховное”; и еще: “кто мя избавит от тела смерти сея” (Рим. 7, 24)? Подобно сему, и наоборот, душа уверовавшая в Бога, избавившаяся от греха, умершая для жизни темной и приявшая в себя свет Духа Святого, как жизнь, и в нем ожившая, там уже проводит жизнь свою; потому что там удерживается светом Божества. Ибо душа не от Божия естества и не от естества лукавой тьмы, но есть тварь умная, исполненная лепоты, великая и чудная, прекрасное подобие и образ Божий, и лукавство темных страстей вошло в нее вследствие преступления» (преп. Макарий Великий. Духовные беседы. 1.7 / Преподобного отца нашего Макария Египетского духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением сведений о жизни его и писаниях. Изд. 3-е. М., тип. М.Н. Лаврова и К°, 1880. С.10-11). Аминь, аминь. Лукавство страстей вошло в душу всех и каждого потомка ветхого Адама по причине греха Адама, а не по причине их личных грехов, которые, наоборот, суть следствие, а не причина, как это догматизировано в богословском волюнтаризме. И особый контраст с экзегезой Златоуста у Макария – это толкование Святого Духа как Удерживающего Своею благодатью душу «нового человека» от падения в «тьму и смерть», или сохранения души «в свете» Своей «жизни». В то время как толкование кесаря в качестве «катехона» у Златоуста – очередной пример атавизма язычества в той богословской школе, к которой он принадлежал.
Следующий стих Послания Римлянам, в котором Апостол противопоставляет «внутреннего» и «внешнего» человека (как новую природу души, воскрешенной благодатью, и ветхую природы «тела смерти») и который толкуется в богословском волюнтаризме как характеристика естественного человека (или – точно так же, как толковали его «сиамские близнецы» Ориген и Пелагий своим – одним на двоих – эллинистическим умом), это Рим 7:19 («Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю»).
«Сама по себе способность выбора еще не делает человека свободным, потому что желания человека и его возможности не всегда совпадают. Человек часто желает того, что не может осуществить, и, наоборот, нередко вынужден делать то, чего делать не хочет. Наиболее ярко в Священном Писании эта мысль выражена в Рим.7:19» (прот. Олег Давыденков. Догматическое богословие: Учебное пособие. М., изд-во ПСТГУ, 2017. С.302).
Но Апостол, опять-таки, говорит здесь о «новом человеке», а не о «ветхом», потому что, во-первых, он ведет речь в первом лице, а во-вторых, обращается уже к верным и крещенным, а не к неверным и некрещенным иудеям («Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым» (Рим 7:4)). Ибо даже в тех иудеях, кто был «под законом», желание духовного (душеспасительного) добра производилось благодатью, а не естественной волей, которая стала «похотью плоти» во всех после первородного греха, «ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим 3:23-24), «посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» (Рим 5:12). Что в очередной раз показывает неосознанное пелагианство концепции креационизма и синергии, получившей в наследство от Оригена отрицание принципиального различия «ветхого» и «нового» естества в вопросе «свободы воли», «не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию» (Рим 2:4), а не то «самовластие», на которое ты уповаешь. «Доброе», которого хочет «новый человек», у Апостола внушается благодатью Святого Духа. А «злое» генерирует его «ветхий человек» («тело смерти»). Благодать влечет верного к добру как «закону духа жизни в Иисусе Христе» (Рим 8:2), «ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих (Рим 7:22-23). Что означает, что «новый» и «ветхий» человек существуют в христианине именно одновременно. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим 8:22-23). Поэтому «новый человек» = «внутренний человек» = душа, которая стала «духом» (Ин 3:6), будучи «рождена» от Него в таинстве Крещения (а не будучи таковой априори, как у Оригена и Пелагия и иже с ними креационистов, тоже отрицающих влияние первородного греха на субстанцию души). «Ветхий человек», враждующий против «нового», или «внутреннего», – это «внешний» человек, т.е. смертное и тленное тело с сохраняющимся в нем законом первородной греховности, влекущим человека к «делам плоти». Первородный грех прощается в Крещении, но свойства греховной плоти остаются. Следствием и признаком прощения первородного греха (искупленного Христом как новым Адамом) является дарование благодати. «…через Него [Святого Духа] Промысл дарует нам преобразование по Богу, так как Он впечатлевает нам Свои черты и преобразует ум как бы в Собственное Свое качество» (свт. Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие Иоанна. Кн.II / свт. Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие Иоанна. Т. 2. М., «Сибирская Благозвонница», 2011. С.226). Признаком сохранения действия первородной греховности является необходимость духовной борьбы с ее проявлениями, стоящая перед «новым человеком» жизненная цель «распинать» в себе «ветхого человека» «с его страстьми и похотьми» (Гал 5:24), «до крови сражаться, подвизаясь против греха» (Евр 12:4).
В то время как Ориген (а вслед за ним такие его ученики, как Руфин и Евагрий, а от Евагрия – такие его ученики, как Кассиан, а от Кассиана – уже многие на Западе и Востоке, не говоря уже о том, что авторитет Оригена как учителя веры даже не нуждался в чьих-то дополнительных рекомендациях вплоть до его осуждения на Пятом Вселенском соборе, т.е. когда теории креационизма и синергии уже полностью сформировались и уже не подвергались сомнению никем, кроме Августина), так вот в то время как Ориген, конечно же, толковал все эти фрагменты из Посланий Апостола в парадигме неотделимого от души божественного «самовластия» («автономии воли»), а значит, без принципиального различия «ветхого» и «нового человека», придавая еще меньше догматического значения первородному греху, чем Пелагий, потому что в его неоплатонической теории космогенеза (как «круговращения Мирового Ума в природе») восстановление падшей души простиралось далеко за пределы физического рождения и смерти.
Вот пример аналогичного приведенным выше толкованиям Апостола свт. Иоанном Златоустом и преп. Марком Подвижником у Оригена как непонимания причины благоволения в спасающихся.
«Теперь рассмотрим еще слова: “помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего”. Противники [свободы воли] говорят: если спасается не тот, кто желает и подвизается, но тот, кого милует Бог, то спасение – не в нашей власти; но или природа наша такова, что мы можем или спастись, или не спастись, или же спасение зависит от одной только воли Того, Кто милует и спасает, если хочет. Но мы спрашиваем у них прежде всего следующее: хотеть добра есть добро или зло? <...> Итак, если тот, кто не спасается, имеет злую природу, то каким же образом он хочет добра и стремится к добру, но только не находит добра?» (Ориген. О началах. 3.1.18 / Творения Оригена, учителя александрийского, в русском переводе. Издание Казанской Духовной Академии. Казань, Лито-типография Казанского университета, 1899. Выпуск 1-2. С.229-230).
И ответ Апостола на этот вопрос: он потому и стремится, что это зависит от Бога милующего, а не от самовластия души как перводвигателя, как мнит Ориген. Апостол говорит не о том, что кто-то желает спасения и много трудится для этого, а Бог его все равно не милует (что просто бред, хотя именно так толкует «александрийский учитель»). Апостол говорит: потому кто-то усердно трудится для спасения, что сначала (или априори) Бог милует его и сподобляет его на эти труды Своей благодатью, «производя в нем и хотение, и действие по Своему благоволению» (Фил 2:13). И, как мы могли убедиться, это ложное толкование Апостола отцом александрийского волюнтаризма становится камертоном для его многочисленных учеников на Востоке и Западе, опрометчиво доверившихся авторитету Оригена как экзегета Писания. «Ко времени блж. Августина толкование на Послание ап. Павла к Римлянам уже было составлено Оригеном на греческом языке в двадцати книгах, переведено на латинский язык Руфином Аквилейским и “уложено” им в десять книг. Несмотря на это епископ Гиппонский оказался первым латинским церковным писателем, самостоятельно обратившимся к истолкованию этого послания» (Тюленев В.М. Вступительная статья. Цит. изд. С.31). Однако, учитывая, что и большинство восточных экзегетов, читавших толкование Оригена на греческом, находилось под его несомненным влиянием, следует говорить о том, что толкование Августина Апостола вообще было единственной экзегезой, принципиально отличной от оригенической традиции. Что и позволило Августину впервые прочесть Апостола адекватно и добиться общецерковного осуждения такой формы западного неооригенизма как пелагианство.
Принципиальное отличие толкования Августина от всех форм богословского волюнтаризма состояло в инверсии причинности: Бог не потому дает благодать, что кто-то потрудился и стал достоин; но, наоборот, Бог дает благодать для того, чтобы человек потрудился и стал достоин спасения. Потому что и стремился, и трудился, и веровал он силою одной только благодати, предваряющей человека в самих его хотениях и стремлениях, а не только в его действиях и трудах, приводящей в движение члены его души точно так же, как члены его тела. «Не знаете ли, что <..> вы не свои? Ибо <..> и в тела ваши и души ваших <..> суть Божии» (1Кор 6:19-20). И поскольку, как еще наполовину язычник, Ориген не допускал наличие у души членов, но представлял ее себе божественным пульсаром, шаровой молнией, или, как сказали бы гностики новейшего времени, «сгустком психической энергии», постольку он и не допускал, что душою может двигать какая-то превосходящая ее сила.
«Учение о бессмертии души тесно связано с представлением о ее простоте. Согласно философскому тезису, усвоенному и святоотеческой традицией, то, что не слагается из различных элементов, не может разрушиться, распасться на составляющие части» (прот. Олег Давыденков. Догматическое богословие. Цит. изд. С.300).
Что и требовалось доказать: «согласие философскому тезису» поставлено в богословской традиции этого «православного оригенизма» во главу угла. Душа, мол, «существо» такое же «прóстое», как и Бог...
Историческими документами, в которых очевидна идеологическая однородность пелагианского и синергианского волюнтаризма, служат разъяснительные письма Целестия и Пелагия папе Зосиме, позволившие им обоим получить (пусть и временное) оправдание и признание их «православными», т.е. такими же умеренными оригенистами, каким было тогда (и остаются до сих пор) большинство в Церкви.
Оправдательная записка Целестия папе Зосиме:
«...Господь установил, чтобы царство небесное было доступно только для крещенных; чего нельзя достигнуть силами природы, то по необходимости достигается по дару благодати. Но что дети должны быть крещаемы в оставление грехов, это мы сказали не потому, что признаем грех по передаче (ex traduce); это совершенно чуждо православной мысли, потому что грех совершается человеком, a не рождается с ним, он есть преступление воли, а не природы. Итак, мы признаем крещение детей в оставление грехов для того, чтобы не думали о нас, что мы различаем виды крещения; необходимо заранее оградить это, чтобы, по случаю таинства, не говорили, в оскорбление Творцу, что зло передается человеку по природе, прежде чем оно совершается человеком (De ресс. orig. n. n. 26, 5. 7)» (Кремлевский А. История пелагианства и пелагианская доктрина. Цит. изд. С. 92).
Совершенно верно: для «православной мысли» (теории креационизма и синергии) такая концепция передачи первородного греха столь же чужда, как и для пелагианских авторов.
Оправдательное письмо Пелагия папе Зосиме:
«...имеем всецело свободную волю грешить и не грешить, которая во всех добрых делах вспомоществуется божественною помощию. Мы говорим, что эта возможность свободного решения принадлежит всем вообще христианам, иудеям и язычникам: во всех одинаково от природы есть свободное решение, но в одних только христианах оно вспомоществуется благодатию. В язычниках и иудеях благо природы обнажено и не вооружено, а в христианах вспомоществуется помощию Христа. Те должны быть судимы и осуждены за то, что, имея свободное решение, по которому могли прийти к вере и заслужить благодать Божию, худо воспользовались данною свободою, a эти должны быть награждены, так как, хорошо пользуясь свободным решением, они заслужили благодать Бога и хранят заповеди Его. <...> Веруем, что души даются от Бога и что оне создаются Богом, анафематствуя тех, которые говорят, что души суть как бы часть божественной субстанции. Осуждаем также заблуждение тех, которые говорят, что души согрешили или пали на небесах, прежде чем посылаются в тела (De grat. Chr. n. 32–31)» (Кремлевский А. История пелагианства и пелагианская доктрина. Цит. изд. С. 101).
Первый анафематизм Пелагия направлен против гностиков и неоплатоников, второй – против оригенического учения о предсуществовании душ и их общем падении. Однако учение о свободной воле каждого как единственной причине греха, т.е. отрицание какого-либо детерминизма в этом отношении, как было показано, является общим для пелагианства, оринегизма и синергианства, т.е. свидетельствует об их совместном нигилизме в отношении учения Апостола о первородном грехе и его последствиях для человеческой природы, непреодолимых для нее самой.
В своем оправдательном письме папе Зосиме, по мысли Кремлевского, «Пелагий скрыл свою мысль потому что под благодатию разумел не содействующую силу Божию, а евангельский закон, пример Христа и прощение грехов: благодать примера Христова помогает человеку в частных действиях поступать право, а благодать прощения грехов приобретается (заслуживается) решимостию человека не грешить, каковая решимость обусловливается добрым прежним направлением воли» (Кремлевский А. История пелагианства и пелагианская доктрина. Цит. изд. С. 101-102). Между тем так же дело обстоит и в синергианстве (как западном, так и восточном), где, как и в пелагианстве, добрая воля предваряла и навлекала на себя благодать как заслуженный приз, потому что отрицалось, что душа «ветхого человека» нуждается в воскрешении благодатью для возникновения в ней самого этого желания.
13-й член «символа веры» Пелагия, переданный папе Зосиме, также не содержит в себе ничего противоречащего догмам православного волюнтаризма.
«Исповедуем свободное решение так, что признаем, что мы всегда нуждаемся в помощи Божией, и утверждаем, что заблуждаются как те, кои с манихеями говорят, что человек не может избежать греха, так и те, кои с Иовинианом уверяют, что человек не может грешить, ибо и те и другие уничтожают свободу решения. Мы говорим, что человек всегда может и грешить и не грешить, что мы всегда имеем свободное решение» (Кремлевский А. История пелагианства и пелагианская доктрина. Цит. изд. С. 105).
«Всегда» здесь означает отрицание различия природной «свободы воли» «ветхого» и «нового человека». Как это обстоит и в святоотеческом синергианстве, и что прямо противоречит Священному Писанию. «Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Рим 3:9-12), «ибо преступлением одного смерть царствовала посредством одного» (Рим 5:17). Об этом и писал Августин южно-галльским синергианам, которые в своем александрийском волюнтаризме (импортированном Кассианом из Египта) были ни в курсе, что возобновляют «древне-греческую» полемику пелагиан с истинами апостольского Христианства.
«Сколь многих философов, говорит Пелагий, знаем чистых, терпеливых, умеренных, свободных, воздержных, благожелательных, бегающих славы мира и прелестей, любящих праведность не менее, чем знание! Откуда, спрошу я, у людей, отчужденных от Бога, то, что угодно Богу? Откуда у них добро, если не от блага природы» (Epist. ad. Demetr. с. 3)» (Кремлевский А. История пелагианства и пелагианская доктрина. Цит. изд. С.179).
Подобно Пелагию, и Юлиан в добродетельных язычниках видел ясное доказательство высокого достоинства человеческой природы и способности ее к достижению святости собственными силами.
«Изобилуют доблестями, пишет он, чуждые вере, у коих нет помощи благодати, а есть одно только благо природы, хотя и обремененное суевериями; благодаря одним силам врожденной свободы они оказываются и милостивыми, и скромными, и чистыми, и умеренными [Contra Iulian. IV, 16]».
«С своей креационистической точки зрения в признании наследственной поврежденности человеческой природы пелагиане усматривали <…> признание Творца людей <…> несовершенным, так как “благой Бог никогда не творит злых, почему не может быть греха в рождающемся, которого творит Бог”. Им казалось, что таким учением “наносится оскорбление Творцу природы” [Op. Imp. III, 161; II, 178; Contra Iul. I, 41]».
«…уничтожение свободы делать добро могло бы произойти только в том случае, если бы Сам Бог захотел в наказание за грех изменить природу созданного Им человека, но Писание так не учит. Если бы Бог, отняв у человека свободу делать добро, стал потом судить человека за грехи, то это была бы “не правда, а высшая несправедливость”, Бог увеличивал бы грехи людей [Op. Imp. V, 55, 49]» (Кремлевский. История пелагианства и пелагианская доктрина. Цит. изд. С.179, 176-177).
С чем были полностью согласны и те восточные креационисты и волюнтаристы, которые учили «азбуку» Христианства по богословскому букварю Оригена и поэтому руководствовались принципом «отдай кровь – и прими Дух».
«Авва Лонгин сказал авве Акакию: “Женщина тогда понимает, что она зачала, когда прекращается кровотечение. Так и душа тогда понимает, что зачала Духа Святого, когда прекращается истечение из нее низких страстей. А пока она оскверняет себя страстями, может ли она похваляться своим бесстрастием. Отдай кровь и прими Дух”» (Монах Павел Евергетинос. Благолюбие в 2 кн. (4 тома), Святая Гора Афон, Келья во имя рождества Иоанна Предтечи Хиландарского монастыря, Свято-Троицкое издательство, 2010. Т. 4. С. 596).
Поэтому Пелагию на восточных соборах, выслушав, тотчас оправдывали как такого же, как они сами, «православного» и провожали чуть ли не с аплодисментами.
«Синергия как методологический принцип предполагает, что аскетический опыт зависит от Бога и человека: “Благодать в сем случае действует, если человек содействует” [Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Начертание христианского нравоучения. Ч. I. М., 1994. С.214]» (иерей Павел Сержантов. К методологии аскетического богословия).
Вот только у Апостола все ровно наоборот: «прими Дух» – и только тогда сможешь «отдать кровь» («распять» в себе «ветхого человека» с его «страстьми и похотьми»); ибо если человек «содействует Богу», то только потому, что божественная благодать уже действует в нем. «Но вы не плоти живете, если только Дух Божий живет в вас» (Рим 8:9).
Поэтому самые веские доводы в пользу того, что действие «закона греховного» посредством «тела смерти» остается и после Крещения, это правила Карфагенского собора 418 г. против пелагианства. «Кто слова апостола: аще глаголем, яко греха не имамы, себе прельщаем и истины несть в нас – так понимает, будто мы только из смирения должны исповедать себя грешниками, а не таковы на самом деле, – тот да будет анафема; ибо следующий стих свидетельствует явно против этого объяснения, и если бы апостол так думал, то должен был бы сказать: себя возвышаем и смирения нет в нас, а не себя обольщаем и истины нет в нас» (правило 6 / свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья I. Цит. изд. Т.20. С.29). При этом сам принцип осуждения Карфагеном неправильного толкования слов св. ап. Павла может быть распространен и на другие фрагменты Посланий того же Апостола, примеров чего уже приведено множество, потому что во всех этих толкованиях в парадигме оригенического волюнтаризма тоже нет той «истины», которая есть в словах Апостола.
В свою очередь, сохранением умственной моторики «ветхого человека объясняются и сами ошибочные толкования патристики, в которых Священное Писание изъясняется «по стихиям мира», а не по благодати «ума Христова».
«Все мы имеем нужду в милости, но не все достойны милости, потому что она, хотя и милость, ищет достойного, как Сам Бог сказал Моисею: "помилую, его же аще милую, и ущедрю, его же аще щедрю" (Исх. 33:19). Поэтому кто сделал что-нибудь достойное милости, пусть говорит: "помилуй мя", а кто лишил себя возможности получить прощение, тот напрасно будет говорить: "помилуй". Если бы милость простиралась на всех, то никто не был бы наказан, но она делает некоторый выбор, ищет достойного и способного принять ее» (свт. Иоанн Златоуст. Беседа на Псалмы. Беседа 4 на псалом 6 / Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. СПб., типография А.П. Лопухина, 1899. Т. 5, Кн.1-2. С. 50).
Однако ни Бог, ни Его пророк, ни Его Апостол не проповедовали тех смыслов, которые приписывает им Златоуст. Более того, Апостол, толкующий это же место Исхода, прямо говорит, что «помилование зависит не от желающего и от подвизающегося» (Рим 9:16), т.е. именно что не зависит от того, сделал ли помилованный «что-нибудь достойное милости» или не сделал, потому что само достоинство дела, по Апостолу, и свидетельствует о Божией милости к деятелю. «Поэтому то, что мы благодаря полученной благодати творим добро, должно быть приписано не нам, но Тому, Кто по милости оправдал нас. Ведь если бы Он возжелал воздать нам по долгу, Он бы воздал нам по долгу за грехи наши» (Августин Гиппонский, блж. Рассуждения о «Послании к Римлянам». Цит. изд. С.39). И Ориген был первым, кто в своих толкованиях стал исповедовать «достоинство благодати», что Златоуст приписывает Богу и Его пророку, повторяя, на самом деле, за этим александрийским «учителем от плоти».
Поэтому на единомыслие пелагианства и православного оригенизма в базовых вопросах антропологии и сотериологии не без оснований указывал осужденный в Карфагене Целестий в качестве своего оправдания, потому что принятые в Церкви теории креационизма и синергианского волюнтаризма тоже не допускают передачу первородного греха на уровне субстанции души и природной воли. «Целестий, удалившийся из Ефеса в Константинополь и изгнанный отсюда, сам доставил в Рим свое исповедание веры. В нем он <...> старался, как прежде на карфагенском соборе 411 г., <...> связать вопрос о распространении первородного греха с вопросом о происхождении души. <...> “Наследственный грех не касается малых детей, – грех не родится с человеком, а совершается им после; он составляет недостаток не природы, но свободной воли, – утверждать, будто грех сообщается человеку чрез природу, прежде чем он сам совершает его, значило бы хулить Творца”» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья I. Цит. изд. Т.20. С. 22-23). И Августин был одним из немногих в Церкви, кто слышал этот аргумент (т.е. взаимосвязь вопроса о распространении первородного греха с вопросом о происхождении души) и понимал его справедливость, поэтому и считал необходимым общецерковное обсуждение истинности теории креационизма.
Таким образом, «свобода во Христе» (Гал 2:4; 5:1), о которой говорит Апостол, это «освобождение от греха» (Рим 6:7), которая заключается именно в непреодолимости действия благодати в избранных ко спасению, безальтернативности насаждаемого ею Божьего благоволения в них. В такой богоподобной свободе и заключается обожение «новой твари во Христе». Избранный принадлежит Богу, а не самому себе («представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» (Рим 6:13)), поэтому в нем нет того титанического «самовластия», которое вслед за стоиками считал «свободой воли» Ориген и заразил идолопоклонством этого волюнтаризма весьма многих на христианском Востоке и Западе. Поэтому, когда Августин отрекся от этого «самовластия» и начал богословски-совершенно (т.е. в точности по Апостолу) учить о непреодолимости благодати в спасающихся, неоэллинистические либертарианцы «в овечьей шкуре» объяснили это его «впадением в крайность», – так дорог им был идол оригенической «свободы воли». Как эллинские мудрецы сочли св. Павла «безумным», когда он начал проповедовать им «Христа воскресшего» (Деян 26:23-24), так еще наполовину «плотские» (1Кор 3:3) по идеологии православные оригенисты, сочли «впавшим в крайность» св. Августина, когда он начал проповедовать апостольскую истину воцарения Бога в христианах как воскрешенных благодатью от духовной смерти прометеевского «самовластия».
Александр Буздалов

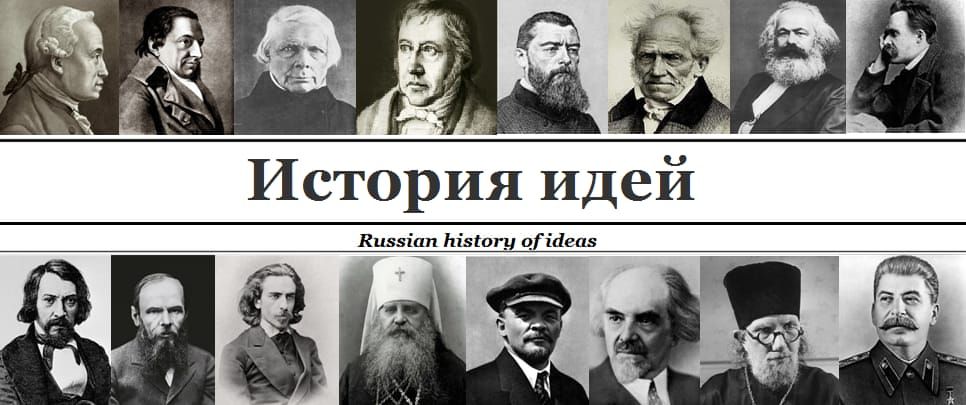




Комментарии
иерей Георгий
2025-03-12 23:53:33
Здравствуйте, Александр Вячеславович! Позвольте вопрос по написанному, цитирую: «необходимость продолжится до тех пор, “пока – некогда слабость будет совершенно исцелена и наступит добровольная и блаженная необходимость (voluntaria et beate necessitas) ни разу не грешить” [De perfection. jnstit. homin. 4]. Последнюю необходимость может дать только Сын Божий чрез непреодолимо (insuperabiliter, omnipotentissime, invictissime, indeclinabiliter) действующую благодать Св. Духа» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья II. Цит. изд. Т.20. С.137). ---------- Состояние нежелания нарушать волю Божию окончательно и бесповоротно наступит у тех, кому непреодолимо действующая благодать Св. Духа даст такое состояние в грядущем воскресении мертвых. Правильно я понял? Значит ли это, что их личная воля будет полностью подчинена воли Божией? Или то, что личных воль у них не будет?
Буздалов А. - иерею Георгию
2025-03-13 00:54:37
Здравствуйте, о. Георгий. ++Правильно я понял? Значит ли это, что их личная воля будет полностью подчинена воли Божией? Или то, что личных воль у них не будет?++ Правильно поняли. Это и называется обожение. Состояние воли здесь идентично состоянию человеческой воли в Христе: она полностью подчинена воле Божией и поэтому блаженствует в умиротворении. Это и есть единственно возможная синергия человеческой воли с Божьей. Для этого волей сына человеческого должна двигать та же божественная благодать, которой действует Бог, а не пресловутое "самовластие", на которое всех богословски "подсадил" Ориген. Синергия возможна только между существами одной природы, либо - посредством силы, одной природы. Как в случае святых, которыми движет божественная благодать, поэтому их воля покоряется Божьей по необходимости природы благодати, обитающей в них, а не по либертарианской "свободе". Вот истинная православная вера. Поэтому блж. Августин со своим учением о непреодолимости действия благодати в святых - чистейший ортодокс. В отличие от всех волюнтаристов (православных оригенистов), ему вольно (как Кассиан) или невольно оппозиционных.
Михаил
2025-03-14 00:37:41
Отче наш...
Николай
2025-03-24 15:49:33
Уважаемый Александр! Огромная благодарность за ваши публикации о богословии блж. Августина. Необычно и впечатлительно.