Гидра язычества в христианской овчине
Дата создания:

Теперь в нашем исследовании, посвященном проблемам христианской психологии (как учения о душе), настало время подробнее поговорить о том, что помешало Августину более решительно отказаться от креационизма (по причине его частичного пелагианства) в пользу единственно непротиворечивой в себе теории о творении душ после грехопадения из падшей субстанции душ предков, потому что, повторим, только она объясняет передачу первородного греховности от души к душе на генетическом уровне, а не вынуждена соглашаться на полупелагианский компромисс креационизма неоплатонического толка, в котором совершенная во всех отношениях душа «повреждается» только после вынужденного соединения со смертным и тленным телом, по способу размножения передающимся от старшего поколения к младшему и всякий раз заражающим тлением страстей саму по себе творимую безгрешной душу.
Новые обстоятельства данного затруднения, с которым Августин столкнулся, обнаруживаются во второй части его сочинения «О душе и ее происхождении», обращенной к пресвитеру Петру, попавшему под влияние гуманистического пафоса Виктора Винсентия, с которым тот, напомним, выступал с обличением Августина за то, что он позволил себе усомниться в истинности креационистической теории генезиса душ после грехопадения. Хотя уже в преамбуле всего трактата (а значит, в качестве одного из его программных тезисов) Августин сделал оговорку, которую мы сразу пометили для себя как рудиментарно неоплатоническую и предположили, что это, скорее всего, не позволит ему самому преодолеть заблуждения креационизма до конца. «…касаясь происхождения душ у отдельных людей, – писал Августин, – я признался, что не знаю, воспроизводятся ли они от первобытной души первого человека как по родительской линии, или же они индивидуально присваиваются каждому человеку без продолжения рода, т.е. так же, как и самому первозданному Адаму. Но в то же время я был совершенно уверен, что душа есть не тело, а дух» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. Предисловие / De anima et ejus origine. Sancti Aureli Augustini Hipponensis episcopi epistulae / hrsg. von A. Goldbacher. — Wien, Leipzig : Tempsky-Freytag, 1984. — Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum; 44). Сама конструкция этой фразы говорит о том, что Августин занимает стратегически уязвимую позицию, пытаясь оправдываться перед «государственным обвинителем», каковым в качестве «истца» выступает апологет «канонического» креационизма Виктор Винсентий, вместо того, чтобы самому обвинять его. Дескать, хотя в аспекте происхождения душ «ответчик» в общепринятой истине креационизма теперь и не уверен, но в аспекте исключительной «духовности» всякой души никаких сомнений быть не может. Т.е. душа и после грехопадения, если даже она передается «по родительской линии», все равно «есть не тело, а дух». Этому «догмату» общепринятой антропологии Августин, как прежде, остается «законопослушен», в чем спешит заверить «присяжных заседателей» и просит внести это в протокол как смягчающее его вину обстоятельство.
Но суть в том, что эта якобы априорная «духовность» души и являлась идеологическим пережитком эллинизма, в частности, пневматологического монизма неоплатоников, где Космический Ум и человеческий ум, или Мировой (т.е. божественный) Дух и человеческий дух (т.е. индивидуальная душа) потому и обозначаются одним термином, что принадлежат к одной субстанции, являясь лишь различными ее тропосами (состояниями). Поэтому когда свт. Игнатий (Брянчанинов) вдруг обнаружил в Писании и Предании другое учение о том, что тварная душа сама по себе есть «тонкое тело», которое становится «духом» только в результате сверхъестественного причастия божественной благодати, т.е. когда он забыл все то, чему его учили в Духовной академии по букварю «православного оригенизма (неоплатонизма)», или «ортодоксального полупелагианства», он оказался в той же самой «зоне критики» со стороны другого апологета псевдохристианского креационизма и полупелагианского волюнтаризма – свт. Феофана (Говорова).
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин 3:6). И такой «плотью» после грехопадения является весь «ветхий человек», т.е. и телом, и душой. Поэтому как в таинстве Крещения человеку дается новое (духовное) имя, так и самой душе Апостолом Истины дается новое богословское наименование – «дух», т.е. именно потому, что пресуществляется сама ее природа, поскольку тварное «тело души» становится причастным нетварной божественной благодати как «духа от Духа». Вот та истина Христианства о природе человеке и сущности его спасения, которую проповедует другой Апостол Истины во всех своих Посланиях еще «плотским» сознаниям своих церковных адресатов (и потому не совсем доверяющих Апостолу, готовым в свою очередь открыть с ним дискуссию о «божественном происхождении души»). «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас» (Рим 8:9). «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор 11:12). «…сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий» (1Кор 15:44-45). Эту истинную антропологию Христианства Августин и пытался противопоставить эллинистической антропологии «мира сего», которую такие «мудрецы от плоти», как Ориген и Пелагий, контрабандой протаскивали в церковное богословие и в чем отчасти преуспели, добившись «золотой середины» между Павлом и Платоном в виде теорий креационизма и синергии. Потому что Августин и стоявший за ним Карфаген, встретив на Востоке оппозицию со стороны «православного оригенизма», не смогли додавить гидру этого язычества в овечьей шкуре, отрубить все головы этого либертарианского змея. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас» (1Кор 2:12). И одним из таких идолов, к которым большинство церковных авторов IV-V вв. продолжал водить их ушедший в подполье подсознания «ветхий человек», была эллинистическая психология и волюнтаризм Оригена.
Как мы уже выяснили ранее, ветхая природа тленной плоти, продолжая существовать и после Крещения, производит те грехи христиан, в которых они каются до последних дней своей жизни, что делает возможными и богословские заблуждения, которые инспирирует ветхое сознание с его лжеименной «мудростью». Не воля, по присущей ее свободе выбора, или по либертарианскому самовластию, произвольно склоняется в ту или иную сторону, реагируя на внешние раздражители («приражения» – в терминах волюнтаристического аскетизма), но тот или иной внутренний закон природы склоняет волю на присущее этой природе действие, непреодолимо для самой воли. Самовластное и всепобеждающее действия благодати в избранных потому и необходимо для их спасения, что оно призвано преодолеть непреодолимость действия закона первородной греховности ветхого естества, действующего и в падшей (страстной и духовно мертвой) природе души, и в падшей (тленной и смертной) природе тела.
Иными словами, в ортодоксальном учении Апостола (если читать его адекватно, как это впервые сделал Августин, отказавшись от господствовавшего тогда толкования Оригена), природа определяет волю. Какая в тебе природа, такая в тебе и воля. В ком царствует благодать («дух животворящий» (1Кор 15:45)) нового Адама, тот «живет по духу» (Рим 8:9), ибо в нем торжествует Божья воля. А в ком господствует грех ветхого Адама, в том «царствует похоть смертного тела» (Рим 6:12), или «похоть плоти» (Рим 13:14). В то время как основный принцип эллинистического волюнтаризма Оригена и Пелагия прямо противоположен апостольскому учению: здесь уже воля определяет природу, «самовластие» склоняет каждого к Богу или к дьяволу, заслуживает причастие божественной благодати точно так же, как «образа и подобия зверя». Поэтому аргументация, например, такого представителя «православного оригенизма» как, преп. Марк Подвижник, местами оказывается идентичной аргументации Пелагия.
«Вопрос: Почему я, будучи крещен, и Бога молю, и благодать Его призываю, и всею волею хочу избавиться и освободиться от лукавых помыслов, и не могу? Не очевидно ли из этого, что преступление Адамово оставило нам это как неизбежное наследие? Ответ: <…>
Потому-то и не все мы одинакового устроения, и не все бываем обеспокоиваемы одними и теми же мыслями, что причины помыслов зависят от нашего произволения. <…> по своей же воле, где любит, там и пребывает, хотя и крестился, потому что самовластие не понуждается [ни до крещения, ни после, т.е. воля не понуждается в принципе. – А.Б.]. <…>
Вопрос: Ты сказал выше сего, что мы наследовали не преступление Адамово, но смерть от сего происшедшую; итак, если властвует смерть, то властвуют и лукавые помыслы? Ответ:
О зловерие! <…> что преступление, бывающее чрез помыслы, зависит от нашего произвола, а не есть понудительное, в том удостоверяют нас те, кои, как сказал апостол, “не согрешили по подобию преступления Адамова” (Рим. 5:14); если же они, происходя от Адама, возмогли не согрешить по подобию преступления Адамова, то очевидно, что и мы это можем, если желаем» (преп. Марк Подвижник. Слово 4-е / преп. Марк Подвижник. Аскетические творения. 2-е изд. Сергиев Посад, СТСЛ. 2013. С.125).
Между тем Апостол в Рим 5:14 сказал противоположное, или именно то, о чем Подвижника спрашивали (и что он определил как «зловерие»): духовная смерть посредством греховных помыслов царствует над всеми именно априори, или до того, как они совершат свой первый грех по своей воле подобно Адаму. Поэтому нужду в Крещении имеют уже новорожденные. «Если же делаю то, чего не хочу, то <…> уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим 7:16-17). «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» [как природным качеством воли «ветхого», или «плотского человека»]. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны» (Гал 5:24-25), т.е. по необходимости своей новой природы, которой избранные стали причастны по милости Божией, а не по заслуге своей доброй воли еще в ветхом состоянии, потому что божественный дар Христовой благодати и производит в них то, что оригенический волюнтаризм мнит «достоинством» самой воли, якобы «самовластно» выбравшей добродетель вместо греха.
Новая (духовная) природа души крещенного тождественна природе человеческой души Христа, т.е. обоженной и ставшей «духом» по причастию божественной благодати. Поэтому во второй книге своего трактата «О душе и ее происхождении», комментируя сочинение полемизировавшего с ним Виктора Винсентия, блж. Августин говорит «справедливо сказал он: “души — это род Божий, не по природе, а по дару”; потому что таковы, конечно, души не всех людей, но только верующих» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 2.5. Цит. изд.). Соответственно, не делая этого различия крещенной и некрещенной души, т.е. считая души «духовными» именно по природе, а не по дару благодати в новом человечестве Христовой Церкви, креационизм Виктора оказывается на позициях теневого неоплатонизма, какой-то неопределенной концепции творение душ, похожей на «эманацию» божественной сущности. Потому что «для нас недостаточно избегать формулы “душа является частью Бога”, но крайне важно, чтобы мы говорили, что душа и Бог не имеют одной и той же природы. Поэтому справедливо сказал он: “души — это род Божий, не по природе, а по дару”; потому что таковы, конечно, души не всех людей, но только верующих. Но затем он вернулся к [своему прежнему] утверждению, от которого [казалось бы] отступил, и снова заявил, что Бог и душа имеют одну природу» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 2.5. Цит. изд.). И объясняется такая двусмысленность как раз тем, что природа благодати в ее отношении к природе души не была еще выяснена в ту эпоху с необходимой ясностью и богословской точностью. Т.е. это было не личное недомыслие Виктора, но свойственное исторически переходной (и поэтому научно «сырой») теории креационизма, в целом, где «духовность» понималась такого рода божественным «даром» сотворенной душе, который становится именно самой ее природой и поэтому не может быть ее полностью потеряна ни при каких обстоятельствах.
То же самое, следовательно, касается и всех тех патристических толкований апостольской идиомы «Отец духов» (Евр 12:9) в парадигме того же креационизма, т.е. как якобы говорящей об отцовстве Бога в отношении всех душ, без различия верных и неверных, или крещеных и некрещеных, а не относящейся к одному только «роду христианскому».
«Отцу духов, или даров, или бесплотных сил, или, что и ближе всего, Отцу душ» (блж. Феофилакт Болгарский. Толкование на Послание Евреям / Толкование на Деяние и Послания святых Апостолов блаженного Феофилакта Болгарского. В 3-х т. М., «Сибирская Благозвонница», 2010. Т.3. Ч.2. С.274).
Принципиальное богословское различие качества «духа», которое получает душа «по дару, а не по природе», заключается в том, что в христианизированном эллинизме (креационизме) это понималось как обладание разумным творением богоподобным качеством «духовности»: как неотъемлемое от самого естества души, раз и навсегда сообщаемого ему в самом акте творения. В то время как истинным учением (где правота Августина подтверждается Писанием и последующим Преданием Церкви) духовность души является атрибутом теозиса как «превышеестественного» для нее причастия божественной благодати как силы другой природы, т.е. именно как дар Божий, а не ее собственное природное качество. «...умная души, как существующая по образу сотворившего ее [...] приемлет то, чтобы обожиться по подобию» (преп. Максим Исповедник. О недоумениях к Иоанну, 2 / Прп. Максим Исповедник. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы); пер. с греч. архим. Нектария. М., «Институт философии, теологии и истории св. Фомы», 2006. С. 76. – К квадратных скобках опущена дань уже Максима оригенизму: «по своему желанию и сознательно изо всех сил крепко держится всецелой любви Божией», потому что, согласно Апостолу, это «желание» и эти «силы» – тоже сверхъестественный дар «любви Божией», а не сила желания самой души). Поэтому возможен вариант, когда душа «не приемлет то, чтобы обожиться по подобию», и в таком случае остается «телом душевным», не становясь «телом духовным» (1Кор 15:44). В то время как неоплатоническая суть креационизма состоит в том, что душе не нужно принимать чего-то еще, что быть «духом», потому что и «образом», и «подобием» Бога как Духа, или Ума, всякая душа как духовная «монада», «микрокосмос», или «бог в миниатюре», обладает априори (а не в качестве сверхъестественного дара благодати). Схожим образом понимали «благодать» Ориген и Пелагий, т.е. как саму природу души как «ума», или «духа», или «воли».
«Пелагий и его приверженцы, принимая благодать в самом обширном смысле слова, вовсе не знают собственно христианского ее значения. Благодать, в глазах пелагиан, не есть божественная сила, которая внутренно действует в человеке в союзе с его свободной волей и усвояет ему спасение, совершенное Иисусом Христом, – нет, под нею пелагиане разумеют, прежде всего, все естественные силы человека, в особенности свободную волю (liberum arbitrium) с возможностью не грешить» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья II / Православное обозрение. М., 1866. Т. 20. С. 236). Однако для православия, как выясняется, недостаточно сказать, что благодать это сила божественной природы и отвергнуть пелагианскую субстанциональную однородность благодати и воли. Потому что оригеническая концепция синергии («благодать есть божественная сила, которая внутренне действует в человеке в союзе с его свободной волей») предполагает такую же сродность, или, как минимум, подобие благодати как божественной силы и воли как естественной силы человеческой души, потому что синергия возможна только между силами одной природы. Но между тварным и нетварным не существует никакого подобия. Богоподобие, которое обретают святые, и заключается в причастности того (той силы божественной природы), чего они лишены по собственной природе. Поэтому правильное (апостольское) учение состоит в том, что благодать действует в союзе только с такой человеческой волей, которую она же сама внутренне одухотворяет, т.е. с новым человечеством Христа и тех, кто в Нем усыновлен Богом, а не с волей «ветхого» или естественного человека. Поэтому в «православном оригенизме» присутствуют отдельные ложные положения неоплатонического монизма благодати и воли, что столь характерно и для пелагианского гуманизма. Потому что если воля как естественная сила души может «соработать» с божественной благодатью, то значит, она обладает «естественным богоподобием» и способна сама осуществлять часть ее духовной работы по обеспечению безгрешной жизни, возможность которой только ослаблена в ветхом человеке, а не полностью утрачена. Поэтому если пелагиане «вовсе не знают собственно христианского значения благодати» (Лебедев), то «православному оригенизму» не достает собственно христианского (апостольского) знания о человеке, а именно, о принципиальном онтологическом различии ветхой и новой человеческой природы и их природных волях, «плотской» – в ветхом Адаме, и «духовной» – в новом Адаме. Потому что первой движет первородная греховность и поэтому ее непреодолимо тянет ко греху как жизни «по плоти», а второй движет божественная благодать, поэтому ее непреодолимо влечет к духовной жизни по Христовым заповедям. Соответственно, «естественное богоподобие» воли в отношении благодати, или подобие духовной природы души и природы Бога как Духа, как основной принцип концепции их синергии, это богословская химера, доставшаяся в наследство церковной мысли от оригенизма как псевдохристианского эллинизма.
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона относит преп. Марка к египетским отшельникам IV века. Отмечается важность для догматического богословия беседы преподобного “О Крещении”: “по изложению в ней учения о свободе воли, за которое Римской Церковью она отнесена к числу пелагианских, запрещенных книг” [Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 36. С. 670]» (Ашмарин. А. А. Богословие преподобного Марка Подвижника. Диссертация на соискание учёной степени кандидата богословия. [Место защиты: Московская духовная академия]. Сергиев Посад, 2013. (На правах рукописи). С.14). То есть, цитированное нами сочинение преп. Марка отнесено к пелагианским тем же самым православным и каноническим Римом, который осудил само пелагианство, а не какими-то там «латинянами-еретиками». Поэтому, наоборот, отрицание запрещения этого сочинения и помещение его в канон говорит о солидарности такого «канона» с пелагианским учением. «Хотя основанием своим А<нтиохийская богословская>. школа была обязана усердному изучению писания, начало которому было положено под влиянием Оригена александрийской школой, но с течением времени она по всем пунктам стала в резкую оппозицию с направлением последней» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. СПб., 1890—1907). Только не по пункту волюнтаризма, где установка оригенизма сохранилась в полной мере. Поэтому представитель антиохийской школы преп. Марк, как и александрийские оригенисты, «слишком резко подчеркивал неповрежденность человеческой свободы» (Флоровский Г.В., прот. Византийские отцы V–VIII веков. Париж, 1933. С. 169). Столь же резко это делал и Пелагий, за был осужден сначала Карфагеном и Римом, а затем и Вселенской Церковью. Однако делавшие подобное преп. Марк Подвижник, преп. Иоанн Кассиан и т.д. почему-то впоследствии оказались эталоном правоверия. Видимо, потому что «в философии они [антиохийцы] примыкали скорее к Аристотелю, чем к Платону [в отличие от александрийцев]» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Цит. изд.). Однако поскольку внутренняя оппозиция эллинизма (аристотелизма и платонизма) богословски непринципиальна, те и другие (антиохийцы и александрийцы) «в богословии на первый план выдвигали необходимость твердого нравственного мировоззрения» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Цит изд. Т.82), т.е. исповедовали ту «автономию воли» и основанный на ней «нравственный монизм» божественной и человеческой духовной сущности, которые являются маркерами «православного оригенизма» как полупелагианства. «Не признав влияния прародительского греха на нравственную природу человека, пелагиане совершенно отрицали влияние его и на природу физическую» (свящ. Петр Лебедев. Пелагианство. Статья II. Цит. изд. С. 231).
Но далее и оказывается, что уже сам Августин отчасти сохраняет приверженность этой эллинистической психологии и «нравственной метафизике», хотя это проявляется в другом аспекте, однако обусловлено тем же общим состоянием наук того времени вообще и христианско-эллинистической (т.е. компромиссной с языческой «мудростью») теорией происхождения душ, в частности. Признать душу «телом, а не духом», по собственной (тварной) природе, для Августина оказалось слишком смелым решением (сразу порывающим с креационизмом), хотя это объясняло бы все, снимало бы разом все двусмысленности и противоречия полупелагианства в церковной антропологии и сотериологии. Историческим преимуществом свт. Игнатия (Брянчанинова), которое позволило ему блестяще решить эту проблему, было как раз уже достаточное накопление к тому времени экспериментальных знаний в области строения материи. «Науки, рассматривающие вещество, достигли в новейшее время величайшего развития. Между многими услугами, оказанными человеку науками в настоящем развитии их, не последнее место должно дать познанию чрезвычайной ограниченности наших познаний. Когда наука была скуднее, человек считал себя ученее. Когда человек полагал, что небо есть свод над землею, что небо и земля сходятся окраинами своими и соприкасаются, – он был в глазах своих больше» (свт. Игнатий (Брянчанинов). Прибавление к «Слову о смерти» / Святитель Игнатий (Брянчанинов). Слово о смерти. М., «Отчий дом», 2010. С. 421). Издержками этого позднеантичного гуманизма (с его духовно-нравственным титанизмом) и объясняется доставшееся в наследство раннему периоду богословской науки оригеническое преставление о «достоинстве души» Бога как одного духовного по естеству – другого Духовного по естеству. Т.е., перефразируя свт. Игнатия, когда человек полагал, что небо и земля соприкасаются, и поэтому он казался себе больше, чем есть на самом деле, тогда даже лучшие из церковных умов считали, что душа человеческая «это дух, а не тонкое (душевное) тело». Отсюда – и христианско-неоплатоническая теория «простоты» души как «духа», не разложимого на какие-то еще составные элементы, что уронило бы «небесное достоинство» души, подчинив ее законам «небесной механики», или «психической физики и химии», точно так же как состоящая из микрочастиц бренная плоть подчинена непреложным законам видимого мира. «Разложение вещества, по законам химии, не иначе может совершиться, как отделением от него одной или многих составных частей его. Здесь – указание науки на вещественность души: отделение чего-либо невещественного, отвлеченного не произвело бы на вещество никакого влияния. Но душа невидима [возразит креационист. – А.Б.]. Что до того? невидим и теплород. Он – не взвешиваемое начало; но отделяется он химически от воды отделением, незаметным и непостижимым для чувств, и вода обращается в другое вещество, в лед» (еп. Игнатий (Брянчанинов). Прибавление к «Слову о смерти». Цит. изд. С.422). Хотя представление о теплороде, которым пользовался Игнатий, к тому времени уже научно устарело, сама по себе аналогия тварной души с неким материальным флюидом была богословски верной. Потому что альтернативой этому была только неоязыческая теория абсолютной невещественности и неделимости души, что было атрибутами божественной природы, а значит, было инерцией неоплатонической парадигмы «эманации» как «исхождения» душ из самой божественной сущности.
Сохранение представления об этих «божественных» свойствах души у Августина, в свою очередь, и демонстрирует незавершенность той «чистки» его антропологии от влияния эллинистической философии, которую он осуществлял в свой последний период. «Если вы признаете, что она [душа первого человека] возникла из ничего, однако была сотворена и вдохнута в него Богом, то ваша вера совпадает с моей. Если же вы скажите, что душа произошла от некоей другой сотворенной вещи, которая послужила материалом, так сказать, для божественного Мастера, подобно тому, как прах был материалом, из которого был создан Адам [телом], или ребро, из которого была создана Ева, или воды, из которых были созданы рыбы и птицы, или земля, из которой были созданы земные животные: то это мнение не является кафолическим и не является истинным» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 2.6. Цит. изд.). Но почему? Ведь то, что души всех последующих людей творятся из «материала» первой сотворенной души (к чему Августин все более и более склонялся), и означает, что она сама имеет «материальную» (т.е. составную) природу. Потому что «простой» является только природа Бога как единственного Духа. Поэтому в этом отношении между «видимым же всем и невидимым» творением (или между «небом и землей») никакой принципиальной разницы быть не должно: «подобно тому, как прах был материалом, из которого был создано» физическое тело Адама, невидимый, или небесный «прах» должен был послужить материалом и для создания его души. Ведь и животный мир обладает соответствующей ему душой, которая сотворена из вещества этого мира («И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее» (Быт 1:24)). А значит, становление души Адама «живою» путем божественного «дуновения» (Быт 2:7) – это уже третий (а не второй) акт его творения – дарование тварной душе божественной благодати как «духа животворящего», т.е. такой акциденции, которая не является природным атрибутом самой души и может быть отчуждена от одариваемого Дарителем по Его воле в любой момент при определенных условиях (нарушения заповеди, в частности). В то время как и натурфилософия, и психология Августина отчасти оставались обусловлены общими для всех церковных авторов того времени аристотелевскими либо неоплатоническими представлениями: «простыми веществами», из которых состояло «Космическое Тело» были «классические элементы» четырех стихий; душа же, будучи «чем-то божественным», была бесконечно выше всего этого. «Дыхание жизни есть собственно душа. Это мнение встречается у Климента Александрийского [Строматы. V. 14. 19], свят. Григория Богослова [Слово 38; Слово 45] и др.» (прот. Олег Давыденков. Догматическое богословие: учебное пособие. М., изд-во ПСТГУ, 2017. С.273).
«Ум же есть, пожалуй, нечто более божественное и ничему не подверженное. Из изложенного очевидно, что душа не может двигаться. А если она вообще не движется, то ясно, что она не может двигать самое себя. Из приведенных мнений наиболее нелепо то, будто душа есть само себя движущее число. У тех, кто высказывает это мнение, указанные выше несообразности вытекают из определения души как движущейся, а особые — из утверждения, будто душа есть число» (Аристотель. О душе / Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т.1. М., «Мысль», 1976. С.386).
«Нелепость» идеи о подверженности души какому-либо движению и дифференцированию у Аристотеля симметрична «зловерию» у преп. Марка Подвижника идеи о подверженности воли какой-либо непреодолимой для нее детерминации. «Божество» души у Аристотеля не движется и не поддается исчислению, потому что она сама является той силой, которая всем движет и все исчисляет. Отсюда – и аналогичное независимое ни от кого и ни от чего «самовластие» души в представлении всех богословских школ того времени. Поэтому и христианско-эллинистический «догмат духовности» души как ее «естественного богоподобия» казался несокрушимым даже Августину, вставшему на борьбу с этим исчадием античного гнозиса. Ведь то, что тело Адама было создано из «праха», а тела всех животных вообще состоят «из воды», нисколько не противоречит тому, что сами эти исходные «материалы», сколько ни разлагай их на составные элементы, были созданы «из ничего». Так что мешает и душе первого человека быть созданной из некоего исходного «материала», или стихий невидимого тварного мира («неба» – в библейской терминологии), микрочастицы которого в свою очередь были сущим «ничто»? Ведь и тело Евы было создано отнюдь не «из ребра» Адама, но, разумеется, из вещества его ребра. Так что же мешает и душам первых людей быть созданными из соответствующего их природе вещества, кроме… эллинистической веры в неделимую «монаду» души как «чего-то божественного»? Что и являлось внутренним препятствием уже для самого Августина для того, чтобы полностью преодолеть эллинистическое представление о том, что «души это род Божий» по самой своей природе, а не по дару сверхъестественной благодати, которая, будучи отчуждена от души за грех, делает ее вещественной, или «плотской» – в терминах Апостола.
Еще лучше обусловленность психологии Августина общим состоянием наук того времени видна в его раннем сочинении «О количестве души», в котором он сам писал подобное тому, за что теперь не щадил Виктора Винсентия.
«Отчизна души, я полагаю, есть сам сотворивший ее Бог. Но субстанцию души я назвать не могу. Я не думаю, чтобы она была из тех обыкновенных и известных стихий, которые подпадают под наши телесные чувства: душа не состоит ни из земли, ни из воды, ни из воздуха, ни из огня, ни из какого-либо их соединения. Если бы ты спросил меня, из чего состоит дерево, я назвал бы тебе эти четыре общеизвестные стихии, из которых, нужно полагать, состоит все подобное, но если бы ты продолжал спрашивать: из чего состоит сама земля, или вода, или воздух, или огонь, — я уже не нашелся бы, что ответить. Также точно, если спросят: из чего составлен человек, я отвечу: из души и тела, и если еще спросят о теле, я сошлюсь на указанные четыре стихии. Но при вопросе о душе, которая обладает своей особенной субстанцией, я нахожусь в таком же затруднении, как если бы спросили: из чего земля? <…> Ибо земля есть тело простое именно потому, что она — земля, и от того называется стихией всех тех тел, которые состоят из четырех стихий» (блж. Августин. О количестве души. Гл.I / блж. Августин. Творения. Т. 1. СПб., «Алетейя», Киев, «УЦИММ-пресс», 1998, с. 183-184).
На тех же зыбких основаниях античной натурфилософии и «нравственной метафизики» делался априорный вывод и о «простоте» души, т.е. об отсутствии у нее какого-либо «количества и пространственного объема».
«Отсюда у Горация тот превозносимый всеми стих, в котором он говорит, когда ведет речь о мудром: “Сильный, в себя самого весь свернувшийся и округленный”. И это верно. Ибо как в числе добрых душевных качеств не найдешь ничего, что во всех отношениях соответствовало бы самому себе более, чем добродетель, так и в числе плоских фигур — более, чем круг. Поэтому, если круг превосходит остальные фигуры не площадью, а некоторой стройностью образа, то тем более следует думать о душевной доблести, что она превосходит остальные душевные расположения не тем, что занимает большее место, а некоторой божественной соразмерностью и согласием в образе действий» (блж. Августин. О количестве души. Г. XVI. Цит. изд. С. 210).
В результате чего формула раннего Августина «отчизна души – Бог» (со ссылками на поэзию Горация и «божественную тригонометрию» естественных добродетелей в духе Платона) звучала не менее двусмысленно, как формула Виктора «души это род Божий».
«Поэтому для нас недостаточно избегать формулы “душа является частью Бога”, но крайне важно, чтобы мы говорили, что душа и Бог не имеют одной и той же природы. Ибо <…> природа, которая не сотворена и все же находится вне Его, либо рождена Им, либо исходит от Него. То, что рождено, есть Его единственный Сын, то, что исходит, есть Святой Дух, и эта Троица имеет одну и ту же природу. Ибо эти три есть одно, и каждый из них есть Бог, и все трое вместе есть один Бог, неизменный, вечный, без всякого начала или конца во времени. В противоположность этому та природа, которая создана, называется “тварью”; Бог — ее Творец, та же благословенная Троица. Поэтому говорится, что тварь существует вне Бога таким образом, что она не создана из Его природы. О ней [если и] говорится как о существующей из Него, [то только] поскольку она имеет в Нем причину своего бытия, не как рожденная от Него или исходящая от Него, но как созданная, сформированная и образованная Им из никакой другой субстанции, – то есть, в одних случаях совершенно из ничего, как, например, “небо и земля” или, точнее, вся материя вселенной, созданная одновременно с миром; а в других случаях – из другой природы, уже созданной и существующей» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 2.6. Цит. изд.). В таком случае «для нас недостаточно» и того, «чтобы мы говорили, что душа и Бог разной природы», и даже недостаточно того, чтобы мы говорили, что воля и благодать разной природы. Потому что если при этом сохраняется эллинистическое представление о том, что даже, будучи сотворенной, субстанция души обладает теми же природными качествами «неизменности», неделимости («простоты») и духовности, которыми обладает Один только Бог по Своей природе, то это потянет за собой обратно и кое-что из того, что Августин уже блестяще опровергнул в пелагианстве и, как минимум, поставил под сомнение в креационизме и волюнтаризме как «православном оригенизме», или «полупелагианстве». «Поэтому справедливо сказал он [Виктор]: “души — это род Божий, не по природе, а по дару”; потому что таковы, конечно, души не всех людей, но только верующих. Но затем он вернулся к [своему прежнему] утверждению, от которого [казалось бы] отступил, и снова заявил, что Бог и душа имеют одну природу, — пусть и не этими самыми словами» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. 2.6. Цит. изд.). Подобное произошло теперь и в построениях самого Августина, когда он, по стереотипам античного идеализма, отказался допустить какую-либо вещественность (причастность тварным стихиям) души, в чем, помимо прочего, и выражалось ее природная «божественность» в эллинизме. В то время как подлинная «противоположность» божественной природе «той природы, которая создана и называемой “тварью”», должна заключаться как раз в ее составном («количественном») характере, что объясняет и ее изменчивость, и ее детерминированность законами существования этого вещества. В то время как богоподобная «неизменность» и «простота» души в позднеантичной философии выражалась в ее мифическом «самовластии», совершенной «свободе воли», что предполагало тех или иных «космических богов» в родословной человека. Поэтому чтобы правота Августина в его полемике с «древнегреческой мифологией» креационизма стала совершенной, мы должны довести его мысль до логического конца и сказать: «справедливо сказал он: души — это род Божий, не по природе, а по дару; потому что таковы души не всех людей, но только верующих. Поэтому и качества “неизменности” и “духовности” имеют души не всех людей, но только души святых в состоянии обожения, т.е. причастных божественной благодати, которая даруется Богом в таинствах Церкви новой твари во Христе». Потому что душа «ветхого человека», потеряв эти дары в первородном грехе прародителей, стала «плотской», или вернулась к тому ничтожному состоянию вещественности, в котором она сотворена. «Ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт 3:19). И телом, и душой.
Александр Буздалов

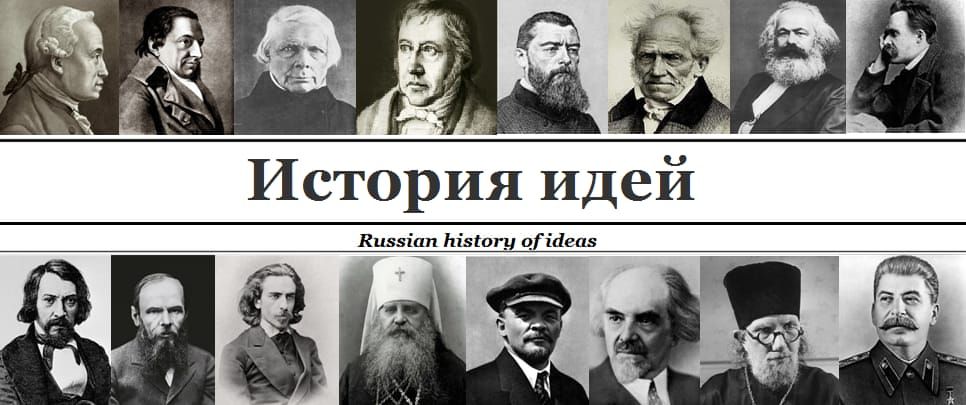




Комментарии
У этой статьи нет комментариев