Гидра язычества в христианской овчине. Часть 2
Дата создания:

Гравюра с изображением Тертуллиана из «Подлинных портретов и
жизнеописаний выдающихся греков, латинян и язычников» Андре Теве (Лион, 1584).
В своем письме к пресвитеру Петру, или во второй части сочинения «О душе и происхождении», блж. Августина различает три формы креационизма, исходя из того, что послужило источником, или материалом для создания души: 1). теория творения из ничего (creatura ex nihilo); 2). теория творения из чего-то другого, уже сотворенного ранее (creatura ex alio); 3). теория творения души из самой божественной природы (ex Dei natura). При этом если первая теория признается им априори истинной, а третья заведомо ложной и нечестивой, то заблуждение второй оценивается более снисходительно (но только в сравнении с кощунством третьей, т.е. теорией эманации души из самой божественной сущности). «Лучше было бы, хотя это было бы неверно, но все же было бы лучше, я говорю, и более терпимо, чтобы вы верили, что душа была создана из какой-то другой тварной субстанции, которую Бог уже создал, чем из собственной несотворенной божественной сущности» (блж. Августин. О душе и ее происхождении. II.3.6. Цит. изд.), так как это делает божественную природу не просто изменчивой, но изменчивой к худшему, ибо, по сути, переносит на нее все характеристики падшей природы разумного творения. Однако, как мы показали ранее, увидеть во второй форме креационизма (творения души из вещества горнего мира «бестелесных сущностей», точно так же, как физическое тело Адама было сотворено из Августин и Тертуллиан как органического вещества дольнего мира) богословский потенциал для окончательной победы над пелагианством (и для преодоления остаточного влияния эллинизма в христианской психологии вообще) Августину препятствовала не только ограниченность натурфилософских знаний той эпохи, но и продолжавшие оставаться влиятельными в Церкви идеи античной психологии. Как «прах земной» считался состоящим «из самого себя» (из «простой» стихии «земли»), так и душа человеческая представлялась неким субстанциональным монолитом. Т.е. парадокс заключался в том, что богословская вера христиан первых веков в субстанциональную «простоту» души тоже была еще продолжением эллинистической философии, где индивидуальные души были просто частями Космической Души. В то время как подлинно христианский и принципиально отличный от пневматологического монизма античности подход к решению этого вопроса заключался в субстанциальной дихотомии тварного и нетварного, который в психологии патристики проводился недостаточно последовательно, и сам Августин не был исключением из этого общего правила. Допустить наличие у души какой-либо вещественности, формы, структуры и т.д. (одним словом, всего того, что отличает тварное как плотское самого по себе от нетварного как единственно духовного как такового) лучшим богословским умам не позволяло не что иное, как все те же труды по психологии Аристотеля, Платона, Плотина, поэзия Горация, Вергилия, Овидия и т.д., на которых большинство из них получало основы образования. Если «сначала Бог сотворил небо и землю», а потом «из земли» сотворил тело первого человека, то почему же его душу Он не мог сотворить «из неба»? Если из самой по себе не имеющей нервной системы материи Богу возможно сотворить высшую нервную систему человека (как орган его ментальной жизни в этом мире), то почему из не имеющий души «материи» горнего мира Ему никак нельзя было сотворить душу, наделенную разумом и волей? Если «субстанция человеческого тела» в своей молекулярной основе является общей для всех органических объектов материального мира, то почему у человеческой души должна быть какая-то эксклюзивная «субстанция» (а не общая для всех психических тварей)? – И правильный ответ: только потому, что это уронило бы «божественное достоинство» души, миф о котором был неотъемлемой частью эллинистической культуры и поэтому прививался каждому вместе с грамотой.
Этим же можно было бы объяснить и непочтительное упоминание Тертуллиана, которое позволяет Августин далее, поскольку Тертуллиан учил как раз о телесности души. Однако и здесь все было не так просто и однозначно. Написанное в 210-213 гг. сочинение Тертуллиана «О душе» (на которое Августин ссылается как на «бредовое») было не только первым опытом христианской психологии, но при этом его мотивы были схожи с ситуацией позднего Августина, поскольку Тертуллианом двигало желание противопоставить христианское и эллинистическое учение о человеке вообще и душе, в частности. «Полемика Тертуллиана против философов отражает противоречие между двумя мировоззрениями, двумя религиозными парадигмами: иудео-христианской верой в творение ex nihilo и языческим убеждением в цикличном развитии человечества и вечности материи. Следует заметить, что Тертуллиан и в этом вопросе был более последовательным сторонником иудео-христианства, чем эллинизированные Ориген и Климент Александрийский» (Братухин А. Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан / Тертуллиан. О душе. [Перевод с латинского, вступительная статья, комментарии и указатель А.Ю. Братухина]. Научное издание. СПб, изд. Олега Абышко, 2004. С.30). Но в том-то и дело, что при этом сам Тертуллиан был недостаточно последователен в своем отречении от эллинистического гнозиса. Что было, конечно, объяснимым и простительным для него. Потому что если Августину в начале V-ого века все еще не хватало последовательности на этом же самом поприще (внутренней чистке христианской психологии от наследия эллинизма), то можно ли было винить в этом Тертуллиана, который вообще был первопроходцем в этом благом деле. Хотя и не хватило ему при этом совсем не того, чего не хватило Августину. Потому что если Августин под влиянием неоплатонизма никак не мог отказаться от «духовности» (как абсолютной невещественности), «простоты» (недифференцированности), «неизменности» и т.п. атрибутов природного богоподобия души, то Тертуллиан свое, казалось бы, богословски единственное верное учение о «тонкой телесности» души выводил не столько из дихотомии Бога как нетварного Духа и всего тварного как формально-ограниченного, вещественного в той или иной мере (как это сделал Брянчанинов), но под влиянием материализма стоиков, т.е. все той же языческой философии как «лжеименного знания», с которым он боролся.
«Я говорю не только о тех, которые представляют душу состоящей из явных телесных субстанций: например, Гиппарх и Гераклит – из огня, Гиппон и Фалес – из воды, Эмпедокл и Критий – из крови, Эпикур – из атомов (если и атомы при своем соединении образуют нечто телесное), Критолай и его перипатетики – из какой-то пятой субстанции (если и она – тело, потому что вмещает тела), но причисляю сюда также стоиков, которые, заявляя, что душа – это дух, почти как мы, ибо дуновение и дух близки между собой, будут, однако, без труда доказывать, что душа – это тело» (Тертуллиан. О душе. Гл.IV. Цит. изд. С.48).
По этой причине у Тертуллиана получалось, что какой-то степенью «телесности» обладал даже Божественный Дух, а не только тварная душа. И в этом плане критическое упоминание Тертуллиана у Августина вполне оправдано. «Я рад, что он [Виктор] верит, что Бог действительно бестелесен, и что, по крайней мере, в этом отношении он отличается от заблуждений Тертуллиана, который утверждал, что душа телесна, как и Бог. Поэтому особенно удивительно, что наш автор, отличаясь от Тертуллиана в этом пункте, все же [как и Тертуллиан] старается убедить нас, что бестелесный Бог не создает душу из ничего, но выдыхает ее как телесное дыхание из Себя». Иными словами, в полемике Августина с Тертуллианом продолжалась полемика неоплатоников со стоиками, только уже перенесенная в христианское богословие. Поэтому и тому, и другому еще чего-то не доставало до христианской истины, и это недостающее было у каждого своим. И, соответственно, у каждого был свой аспект христианской психологии, где плотские мудрования языческих философов были уже, действительно, преодолены.
«Из-за существования этих двух приносящих вред истине точек соприкосновения [между нашим учением и философией] мы вынуждены, сверяясь с божественными сочинениями, освобождать наши общие с философами положения от приводимых ими доказательств и отделять общие с ними доказательства от их положений» (Тертуллиан. О душе. Гл.II. Цит. изд. С.45). Таким «общим положением» между христианской истиной и лжеименным знанием стоицизма и оказывается учение о причастности души вещественности, или о том, что душа является «телом своего рода». Однако в части отделения истинной аргументации христианского учения от ложных доказательств стоицизма Тертуллиан не достигает своей цели. Потому что основной богословский принцип Христианства, как было сказано, заключается в дихотомии тварной и нетварной природы. Поэтому если нетварное является духовным, простым, неизменным, вездесущим и т.д., то тварное, будучи его антиподом, должно быть вещественным, органистичным, обладать формой, размером, локацией и т.д. Не делая этого принципиального различия между Богом как Духом и душой как телом особого рода, но исповедуя и в отношении божественной природы телесность особого рода (а именно, как «дыхания»), мысль Тертуллиана демонстрирует остаточную инерцию эллинистической философской традиции с ее субстанциональным монизмом божественного и человеческого. Отличие Тертуллиана от Оригена в этом отношении заключается лишь в том, что если у второго этот монизм духовный, или неоплатоническо-гностического толка, то у первого этот монизм телесный, или стоического толка.
«Нам, признавшим душу происходящей из дыхания Бога, следует приписать ей начало. Платон это исключает, утверждая, что душа не рождена и не сотворена [Федр, 245c–246a]» (Тертуллиан. О душе. Гл. IV. С.47).
Между тем то, что душа сотворена «дыханием Бога», не означает, что она сотворена из самого «дыхания Бога». Потому что во втором случае оппозиция платонизму оказывается мнимой, потому что происхождение души из божественного дыхания означает лишь переход последнего в другое состояние, в чем и заключалось сущность психологии платонизма и онтологии античности вообще, и на что указывал Августин как на недомыслие у Виктора Винсентия. Не говоря уже о том, что сотворение души после сотворения тела означает, что какое-то время (пусть даже самое незначительное) тело Адама существовало без души, что противоречит определению Пятого Вселенского собора: «Церковь, наученная Божественным Писанием, утверждает, что душа произошла вместе с телом, а не так, что одно прежде, а другое после, как казалось сумасбродству Оригена» (Юстиниан. Грамота к святому собору об Оригене и его единомышленниках / Деяния Вселенских соборов. Т. 3. С. 538). Следовательно, душа Адама должна была бы быть сотворена одновременно с телом из соответствующего ее природе вещества (точно так же, как тело было сотворено из органической материи земного праха). Тогда делающую душу «живою» «дуновение» Творца будет означать последующее дарование Адаму божественной благодати. Данное толкование, как мы уже отмечали, находит подтверждение в Новом Завете, когда Господь Иисус Христос, даруя Своим ученикам благодать апостольства, в качестве видимой стороны этого Таинства использовал «дуновение» на них. «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго» (Ин 20:21-22).
Таким образом, нерешенным оставался вопрос, что именно понимать под «дыханием», или «дуновением» Бога. Если рассматривать божественное «дыхание» по аналогии с человеческим, то человек посредством дыхания обеспечивает жизнедеятельность своего тела, производя газообмен с окружающим его воздушным пространством. Без подачи кислорода физическая смерть человека наступает в течение нескольких минут. Очевидно, что таким образом «дышать» Бог не может. Следовательно, «вдохнуть» в лицо Адама Бог должен был не «молекулы» божественного естества, но нечто иное, что наполняло окружающее Адама пространство. И тем, что находилось вокруг Адама и что могло послужить материалом для сотворения его души, была как раз стихия, наполняющая воздушное пространство горнего мира, или мира бестелесных сущностей. Однако, имея историческое преимущество перед Тертуллианом и Августином, мы обладаем еще и ортодоксальным учением о божественной благодати как о том, что существует «окрест Бога» и «причаствуется» в Таинствах Церкви. «Мы же знаем, что у Бога нашего есть и сущность, всецело непостижимая и неизреченная, для всех и всегда, но и есть простота, тоже нетварная, которая присуща Ему по природе, но не есть природа Его, как и благость, мудрость, сила и все другое, что созерцается окрест Него и помышляется» (свт. Григорий Палама. Антирретики против Акиндина. II.18.88 / свт. Григорий Палама. Антирретики против Акиндина. Краснодар, «Текст», 2010. С. 91). В этом случае тем, что было «вдохнуто» в Адама, должны была быть уже божественная благодать, сделавшую его душу «живой», т.е. даровавшая ей причастие той жизни, которой живет Сам Бог как Дух. Поэтому наилучшим будет толкование, объединяющее оба варианта, потому что они не противоречат, но дополняют друг друга. А именно: сама душа была сотворена «дыханием» как действием Бога из тонкого вещества невидимого мира (или из того, что было «окрест» Адама), но, одновременно, с этим в лицо Адама была вдохнута и божественная благодать (как то, что находится уже «окрест» Бога и соответствует Его природе), потому что совершенство творения человека предполагает творение его уже одаренного благодатью, или субстанционально трех-, а не двухсоставным (стоящим из тела, души и благодати, а не только из тела и души). «Дыхание жизни не есть душа, но Божественная благодать, сообщенная Богом человеку вместе с сотворением. Так, преп. Анастасий Синаит полагал, что “сотворив Адама... Бог через вдуновение послал в лицо его благодать, просвещение и сияние Всесвятого Духа” [Anastasii Sinaitae. Viae dux. XIII. 8 / PG. T. 89. Col. 236C]. Об одновременности сотворения человека и сообщении ему Духа Святого говорил и свят. Григорий Палама [Беседы (омилии). Ч. 3. М., 1993. С.168]. <…> В. Н. Лосский полагает, что, согласно пониманию восточных отцов, “нетварная благодать включена в самый творческий акт, и душа получает жизнь и благодать одновременно, ибо благодать – это дыхание Божие, “Божественная струя”, животворящее присутствие Духа Святого”» (прот. Олег Давыденков. Православное учение о человеке / прот. Олег Давыденков. Догматическое богословие: учебное пособие. М., изд-во ПСТГУ, 2017. С.273-274).
Поэтому природа человека не имеет собственного «духа» как какой-то мифической «высшей части души». В этом и заключалась «бесовская прелесть» античного гностицизма, обожествлявшего душу, представлявшего ее как «частицу Бога», сполох божественного «сверх-огня», заключенный в бренном теле. Единственным духом, которым может обладать человек, является божественная благодать, ибо «рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин 3:6-8). Лишенный в грехопадении этого божественного духа человек становится не более чем одним из тварей мира сего, разумных и одушевленных в свою меру.
«Душа дана Богом как оживотворяющее начало для того, чтобы управлять телом. Иначе сказать, душа есть жизненная сила человека и каждого живого существа; ученые так ее и называют – виталистическая (жизненная) сила. Душа есть и у животных, но она вместе с телом была произведена землей. “И сказал Бог: да произведет вода... душу живую... рыб,... пресмыкающихся. И сказал Бог: да произведет земля душу живую... скотов, гадов, зверей... по роду их: и стало так” (Быт.1:20–24). И только о человеке сказано, что после создания тела его из праха земного, Господь Бог “вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою” (Быт.2:7). Это “дыхание жизни” и есть высшее начало в человеке, т.е. Его дух, которым он безмерно возвышается над всеми другими живыми существами. Поэтому, хотя душа человеческая во многом сходна с душою животных, но в высшей своей части она несравненно превосходит душу животных, именно благодаря сочетанию ее с духом, который от Бога. <…> Дух в человеке проявляется в трех видах: 1) страх Божий, 2) совесть и 3) жажда Бога» (прот. Сергий Дергалев. Основы православной антропологии / прот. Сергий Дергалев. Введение в православную аскетику. СПб, «Контраст», 2017. С.24-28).
Но в том-то и суть, что во фрагменте Быт 2:7 сказано о благодати как «оживотворяющем начале» божественной природы, а не о «высшей части» самой человеческой природы. «Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1Кор 45-49). Тогда как неоплатоническое кредо «православного» креационизма заключается в том, что здесь каждая душа после грехопадения творится с этим «высшим началом» точно так же, как душа первого Адама, грех которого не способен лишить природу человеческой души этой своей «высшей части», потому что это «высшее начало» по своей природе есть одно целое с душой. Поэтому если в Христианстве Апостолов «должно вам родиться свыше», т.е. креститься в Отца и Сына и Святого Духа, чтобы стать причастным этому божественному «началу», субстанционально «привиться» к новому Адаму как Духу, то в «православном» креационизме, чтобы быть Человеком Духовным, достаточно просто появиться на этот свет, ибо это «высшее начало» уже прилагается к каждой душе как природная потенция, требующая только развития «с помощью благодати». В этом же самом, в свою очередь, заключались главные антропологические и сотериологические догмы пелагианства: «благодать» — это сама духовная природу души, наделенной разумом и свободой воли как той жизненной силой, которой каждому желающему можно достигать Царства Божия как своей небесной отчизны. А пресловутая «помощь благодати» — это лишь умножение Богом этих имманентных сил души в ответ на ее естественные усилия в этом направлении.
Поскольку слова «дух» и «дуновение», по мысли Тертуллиана, являются однокоренными, то отсюда, мол, следует, что
«душа состоит из дуновения Бога», и «мы ее рассматриваем как собственно дуновение [или дух]» (Тертуллиан. О душе. Гл.XI. Цит. изд. С.59).
Что, в свою очередь, и означает, что эллинизм еще далеко не преодолен у Тертуллиана, на что Августин справедливо указывает. Потому что такая этимология должно работать и в отношении Творца, «дуновение» Которого должно означать наличие у Него «души», которой свойственно «дышать», или производить «дуновения». Собственно, такой и была генеалогия души в платонизме (индивидуальная душа – это актуализация Космической Души, которая в свою очередь есть актуализация Космического Ума, а все вместе – манифестация Единого).
«…настоящее исследование побуждает меня назвать душу духом, так как дышать приписывается другой сущности [то есть духу]. Поскольку мы считаем это свойством души, которую мы признаём однородной и простой, необходимо, чтобы мы объявили ее духом при определенном условии: не из-за состояния, но из-за действия, не как сущность, но как дело, потому что она дышит, а не потому, что она собственно есть дух. Ведь и дуть значит дышать. Таким образом, и душу, которую мы определяем, исходя из ее своеобразия, как дуновение, мы объявляем здесь духом по необходимости» (Тертуллиан. О душе. Гл.XI. Цит. изд. С.59).
Что же касается «простоты», «бессмертия» и подобных божественных атрибутов природы души как духа, то тут, повторим, уже сам Августин находился с Тертуллианом еще в одинаковом положении «апостолов» платонизма.
«Для укрепления позиции нашей веры важно определить душу как простую, согласно Платону [Федон, 78b–с; Тимей, 35а.], то есть как однородную в отношении, по крайней мере, ее сущности» (Тертуллиан. О душе. Гл.X. Цит. изд. С.).
Разница была лишь в том, что Тертуллиан порывал с платоническим идеализмом, вводя учение о телесности души (и то под влиянием стоицизма), а Августин – категорически отвергая любые поползновения на теорию эманации и, в частности, тертуллиановское толкование сотворения души из самого «дуновения» Бога, что в контексте постоянных ссылок на Платона и означало, что душа Адама была сотворена из «Космической Души» Самого Творца.
«Кроме того, так как тот же Платон природным называет только разумное, как пребывающее в душе Самого Бога, если мы также неразумное приписываем природе, которую наша душа получила от Бога, то равным образом неразумное будет от Бога, поскольку оно природное, ибо Бог есть Создатель природы. Но ведь проникновение греха в мир произошло из-за дьявола, всякий же грех – неразумное; итак, неразумное – от дьявола, от которого и грех, чуждый Богу, Которому чуждо все неразумное. Поэтому, отличие разумного и неразумного вытекает из различия создателей» (Тертуллиан. О душе. Гл.XVI. Цит. изд. С.65-66).
Здесь мы можем видеть, как одно ложное учение Платона (о наличии у души присущего ей по природе «разумного» и «неразумного» начала, что делало Бога творцом «неразумного», или греховного) опровергается Тертуллианом, тогда как другое (о наличии у Бога «души») попускается (потому что, как было сказано, именно на этом строилась его собственная теория сотворения души из «дуновения Бога», что – методом от обратного – позволяла называть и Его «дышащий» Дух «душою», а значит, и «телом особого рода»).
«Для веры приемлемо и то, что Платон делит душу на две части: на разумное и неразумное начала» (Тертуллиан. О душе. Гл.XVI. Цит. изд. С.65).
Но если у Платона оба начала присущи самой природе души, то, по Тертуллиану, это верно только в отношении разумного начала, которое Бог «особым образом выпустил Своим дыханием», тогда как неразумное произведено грехопадением. В чем снова сказывается характерное для мысли Тертуллиана смешение христианских истин с философскими заблуждениями. Потому что «разумное начало» души, так же как «разумное начало» тела (головной мозг), конечно, сотворено, а не «выпущено» Богом из Своего естества. Зато в своем учении о грехопадении Тертуллиан мог бы служить ориентиром для представителей патриотического креационизма, потому что он достаточно внятно говорит о произошедшем в результате греха прародителей изменении самой природы души. «Неразумное же [начало] надо мыслить как нечто <...> вросшее и укоренившееся в душе наподобие уже чего-то природного, ибо это случилось в самом начале природы» (Тертуллиан. О душе. Гл.XVI. Цит. изд. С.65). «Итак, порок души, кроме того, что прибавляется к ней после встречи с нечистым духом, происходит от первоначальной ее вины, будучи некоторым образом естественным» (гл. XLI. Цит. изд. С.111), то присущим уже самой падшей в прародителях природе души.
В целом же, повторим, пример психологии Тертуллиана особо ценен для понимания того, как формировалось антропология патристики тем, что у него зависимость от эллинистической традиции проявляется обилием прямых ссылок и цитат, в то время как рудиментарный неоплатонизм церковных креацинистов IV-V вв. уже не так просто распознать.
«…все природное души присутствует в ней самой в качестве ее сущностного и с ней растет, и преуспевает с того момента, как появляется она сама. Как говорит и наш Сенека: Присущи нам семена всех искусств и возрастов, и Бог-учитель незаметно производит дарования [Ср.: “В нас вложены семена всякого возраста и всякого знания, а Бог есть тот наставник, который выводит таланты из неизвестности” (Сенека. Вопросы природы, 3, 29. Пер. П. Краснова)], то есть, из семян врожденных и скрытых в младенчестве, к которым относится и интеллект» (Тертуллиан. О душе. Гл. XX. Цит. изд. С.76).
Смешение Христианства с эллинизмом выражается у Тертуллиана в самой его концепции происхождения души, которая сводится к какой-то богословской химере ее сотворения путем исхождения из божественной природы. Душа, по Тертуллиану,
«является не только творением Бога, ибо и остальное таково, но и дыханием Бога, ведь она – единственная, о которой мы говорим как о рождающейся вместе со всем ее оснащением [интеллектом и чувством]» (Тертуллиан. О душе. Гл. XIX. Цит. изд. С.74).
Поэтому «приемлемым для веры» у Тертуллиана оказывается только то, что относится к характеристикам тварности и, в частности, его учение о телесности души. То, что душа является своего рода организмом, рассуждает Тертуллиан, доказывает ее развитие в течение жизни, потому что в человеческом эмбрионе – душа эмбриона, в ребенке – душа ребенка, а во взрослом человеке – душа взрослого человека. Это касается и размера души, соответствующего размеру тела (или того «количества души», которое ранний Августин с энтузиазмом отрицал в одноименном сочинении, еще исполненным неоплатонических штампов), и ее силовых показателей (степени развития ума и воли). «…и в семенах плодов имеется один образ каждого рода, развитие у них, однако, будет разным. <…> Так и душа может быть однородной по семени, многообразной по росту» (Тертуллиан. О душе. Гл. XX. Цит. изд. С.76).
Соответственно, не только «приемлемо», но и необходимым «для веры» должно быть признано учение Тертуллиана о бездуховности «тела» души по ее собственному естеству. «Ибо что в нем [Адаме] духовного? Если оно в нем есть потому, что он предсказал ту великую тайну о Христе и Церкви: “Это – кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет названа женщиной, потому оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут оба одной плотью” [Быт 2:23–24], то это случилось впоследствии, когда Бог навел на него беспамятство [Быт 2:21], духовную силу, от которой зависит пророчество» (Тертуллиан. О душе. Гл.XXI. Цит. изд. С.77). Т.е., если толковать эти слова первозданного праотца (Быт 2:23–24) как пророчество о Церкви, то они, как всякие пророчества, совершены были силою (благодатью) Святого Духа, а не оракульскими способностями самого Адама. «Это будет сила божественной благодати, которая, разумеется, могущественнее природы, имеющая в нас зависимое от нее начало – свободу выбора, называемое αὐτεξούσιον, которое, так как и само является природным и изменчивым, к чему бы ни склонялось, склоняется в соответствии с природой» (Тертуллиан. О душе. Гл.XXI. Цит. изд. С.78).И поскольку это совершенно верно, ибо соответствует учению Апостола, таковым это оказывается и у позднего Августина, который, преодолев волюнтаризм эллинизма, пришел к выводу о непреодолимости действия благодати в избранных, что заключается как раз в действии их воли в соответствии с природой благодати и поэтому в полном согласии с волей Божьей о них. Как природная воля всех, кто наследует греховную природу души падшего Адама, непреодолимо склоняет их волю к греху («потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе» (Рим 7:17-18)), так и воля всех тех, кто предопределен ко спасению во Христе Иисусе, непреодолимо склоняется Его благодатью к действиям «в соответствии с природой» этого нового Адама, «потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению» (Фил 2:13).
Неприемлемым же для веры является то, что в отстаивании этих базовых положений христианской психологии Тертуллиан оказывается непоследователен и, одновременно, в унисон античным мудрецам утверждает, что
«благодаря [прочим природным свойствам] душа познается скорее как родственная Богу, чем как родственная веществу. Эти свойства <…> свободы выбора и господством над вещами, а порою и пророческого дара, отличного от того, которым по Божьей благодати обладают пророки» (Тертуллиан. О душе. Гл.XXII. Цит. изд. С.79).
Что означает, что экстрасенсорные способности и другие характеристики «естественной сверхъестественности», или «натурального подобия» Святому Духу, душе все-таки присущи, ибо, «как говорит наш Сенека», «наш Платон», «наш Аристотель»… и т.д. В результате чего истинные (христианские) и ложные (эллинистические) природные свойства души в психологии Тертуллиана перемежаются.
«Мы определяем душу как рожденную из дыхания Бога, бессмертную, телесную, имеющую образ, простую по сущности, рассудительную в том, что ее касается, разнообразно развивающуюся, свободную в принятии решения, подверженную случайностям, благодаря своим дарованиям изменчивую, разумную, владычицу, прорицательницу, происходящую из одной души» (Тертуллиан. О душе. Гл.XXII. Цит. изд. С.79).
«Происхождение из одной души» как одно из истинных положений у Тертуллиана относится уже к генезису индивидуальных душ после грехопадения прародителей. Что вступает в непримиримое противоречие с теми ложными положениями, которые он заимствует в античной психологии. Потому что первородный грех, будучи филогенетическим изменением именно самой природы той «одной души», от которой происходят последующие, сводит на нет всю ее баснословную «свободу принятия решений» как основного механизма «подверженности изменениям». Иными словами, вопреки ясному учению Апостола о том, что грех падшего Адама становится «греховным законом» (Рим 7:23) природной воли всех его потомков, который они сами преодолеть никоим образом не могут, Тертуллиан полагает, что «благодаря своему дарованию свободы принятия решений» душа и после грехопадения сохраняет способность субстанционально меняться по своему усмотрению. Т.е. заблуждается аналогично Пелагию и Оригену, именно по той причине, что полностью не отказывается от мифов эллинистического гуманизма. Потому что душа может быть «по сущности» либо «телесной» (вещественной своего рода), либо «простой» (ибо все телесное непросто); либо «рожденной из дыхания Бога», либо сотворенной «дыханием Бога»; либо «рассудительной только в том, что ее касается», либо «прорицательницей» по жизни; либо «подверженной случайностям» (или – в эллинистических терминах – «злому року»), которые суть законы природы, либо «владычицей морской» вроде Посейдона и т.д. В отличие от учителя всех еретиков Платона, говорит Тертуллиан,
«мы признаем душу рожденной и вследствие этого менее причастной божественности и блаженству, рассматривая ее как дыхание, а не как дух» (Тертуллиан. О душе. Гл.XXIV. Цит. изд. С.81),
что, собственно, и означает, что и сам Тертуллиан еще причастен платонизму, отличаясь от него только степенью «божественности», которую он оставляет природе человеческой души.
Как тело, согласно Тертуллиану, происходит из семени тела, так душа происходит из семени души. Что не только разумно, но, повторим, не противоречит учению VВС, определившему одновременность возникновения тела и души. «…если мы признаем две разновидности семени, телесную и душевную, мы, однако, будем утверждать, что они нераздельны и, таким образом, возникают одновременно, в одно и то же мгновение» (Тертуллиан. О душе. Гл.XXVII. Цит. изд. С.88-89).
Делает при этом Тертуллиан и необходимую оговорку (как Августин в первой части своего трактата [О душе и ее происхождении. 1.17]), что речь идет не столько о естественном процессе размножения, в котором Создатель остается безучастным, сколько о тиражировании Им новых человеческих существ посредством уже сотворенных субстанций души и тела.
«Итак, из одного человека происходит все это изобилие душ, поскольку природа выполняет, надо думать, Божие предписание: Растите и умножайтесь [Быт 1:28]» (Тертуллиан. О душе. Гл.XXVII. Цит. изд. С.89-90).
Однако здесь же Тертуллиан допускает в своих рассуждениях тот богословский ляп, за который ему наиболее достается от Августина, потому что из его ошибочного положения «рождения души из дыхания Бога» неизбежно следует ложный в квадрате вывод о какой-то «телесности» или «душевности» Самого Бога.
«Примеры происхождения человека – наиболее достоверные: плоть в Адаме – из ила. <…> Душа – из дуновения Бога. Что другое дуновение Бога, как не пар от дыхания? Из него будет происходить то, что мы испускаем вместе с той жидкостью» (Тертуллиан. О душе. Гл.XXVII. Цит. изд. С.89).
Получается, вместе с семенной жидкостью через дыхание отца испускается семя души, поэтому каждая новая душа рождается тем же самым способом «дуновения», только это уже дыхание не Творца в лицо Адама, но дыхание страсти мужа в лицо жены, зарождающее в ней новую душу одновременно с зачатием нового тела. Что в очередной раз демонстрирует ограниченность богословской мысли Тертуллиана рамками эллинистической философии, научно-младенческими представлениями стоицизма и платонизма, в частности. А значит, основная задача, поставленная Тертуллианом перед собой в этом сочинение, а именно, «разоблачение обмана Пифагора» (Тертуллиан. О душе. Гл.XXVIII. Цит. изд. С.90) и прочих прославленных языческих софистов, создание христианской психологии и противопоставление ее ложной античной мудрости, оказывается, по большому счету, не выполненной или выполненной только отчасти. Наиболее вульгарные ереси (вроде оригенической теории предсуществования душ, платонического метемпсихоза, гностической триады их родов), конечно, без труда опровергаются Тертуллианом. Но на более тонком богословском уровне собственные концептуальные рецепции и зависимости от эллинистической психологии остаются им неопознанными и поэтому непреодоленными.
Однако приходится констатировать, что и представителям патристики последующих веков, увы, не удалось значительно продвинуться в этом направлении, если даже усилий победителя пелагианства блж. Августина оказалось недостаточным, чтобы полностью порвать со своими ранними неоплатоническими установками в антропологии. Что уж тогда говорить о приверженцах «православного оригенизма» и сторонниках «ортодоксального» креационизма, исповедующих, по сути, «непорочное зачатие» душ тем же самым «дыханием Бога» и наравне с теми же пелагианами отрицающих передачу первородной греховности от души к душе.
«Дыханием» Бога, согласно Тертуллиану, рождена только душа Адама, остальные же происходят друг от друга, начиная с души Евы. «плоть <...> является живым существом, ибо я признаю, что и эта часть Адама [из которой сотворена Ева] тогда была душой. Впрочем, и ее оживило бы дыхание Бога, если бы в женщине не было бы отводка как плоти, так и души Адама» (Тертуллиан. О душе. Гл. XXXVI. Цит. изд. С.106). Т.е. оживленная «дыханием» Бога душа Адама передается до грехопадения Еве, а после – Авелю, Каину и т.д. в том же тропосе природы (субстанциональном состоянии), в каком сама пребывает в этот момент. Что полностью объясняет передачу греховности на уровне природы души, но оставляет натянутым толкование наделения души Адама даром духа, которое у Тертуллиана происходит во время вещего сна (Быт 2:21), потому что «дуновением» Бога душа обретает саму свою тонко-телесную природу. «И сам, – говорит, – пойдет перед народом в силе и в духе Илии [Лк 1:17], – не в душе его и не в теле. Ведь эти, последние, у каждого человека свои собственные; дух же и сила привносятся извне по милости Бога» (Тертуллиан. О душе. Гл. XXXV. Цит. изд. С.105). Между тем таким «привнесением» трансцендентной силы благодатного духа и было «дуновение» Бога «в лицо Адама», тогда как «собственная душа» Адама должна была быть сотворена вместе с телом из соответствующего своей природе вещества («праха» небесного). Кроме того, наличие у души «семени», подобного физическому, или то, что та «часть» Адама, из которой сотворена Ева, «была душой», опровергает догму эллинизма о «простоте» души, чего Тертуллиан также не осознает. Потому что если семя и ребро являются частями тела, то и содержащаяся в них душа является частью, или «отводком» души Адама, из которой создается новая душа (Евы).
Таким образом, наиболее «приемлемой для веры» следует признать саму концепцию Тертуллиана наследственной передачи души от родителей к потомству в актуальном состоянии ее природы: в первозданном – в случае сотворения души Евы из «отводка» души Адама; и в падшем – в случае сотворения душ всех потомков ветхого Адама из выродившейся субстанции душ их ближайших предков. Говорим «сотворения», а не «рождения», потому что, как было отмечено, сам Тертуллиан делал необходимое пояснение о том, что его теория традуционизма (рождения душ друг от друга), на самом деле, является только усовершенствованной разновидностью теории креационизма (творения душ), поскольку рождение всего тварного есть опосредованная форма их создания Творцом, продолжающего таким образом Свой промысл о мире, т.е. тиражирующего однажды сотворенные из ничего природы, где природа человеческой души в этом плане ничем не отличается от природы человеческого тела, точно так же множась путем деления и развития целого из части. «Некая сила божественной воли в качестве помощницы обеспечивает всем необходимым сеяние, создание, формирование человека в утробе, владея способом, каким бы он ни был, осуществлять это» (Тертуллиан. О душе. Гл. XXXVII. Цит. изд. С.106).
Александр Буздалов

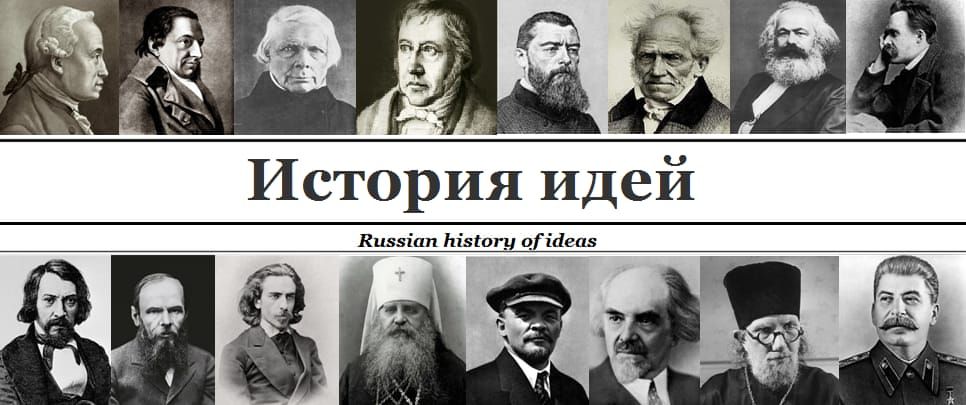




Комментарии
Прот.Константин,Грузия.
2025-04-13 14:58:26
С праздником Александр! Полагаю, очень важно когда богословскую концепцию подкрепляет соборное определение 5 вс . Собора. Спасибо!
Буздалов А.
2025-04-14 01:36:00
С Праздником, о. Константин!