Казус Вершилло, или Срамная часть души
Дата создания:
Обложка первого издания романа Германа Гессе «Сиддхартха» 1922 г.
Как мы уже знаем, одно св. отцы писали от Духа Истины, а другое – «от ветра головы», причем даже не «своея», но от ветра в головах Плотина, Оригена и им подобных учителей от плоти (т.е. от помраченного ума «ветхого» человека, не просвещенного благодатью Духа Истины). Поэтому все те церковные авторы, воззрения которых исторически сложились путем такого рода идеологического микса, или (выражаясь книжно) «патристического синтеза», как правило, православно учили о Боге (на основании Священного Писания) и неправославно о человеке (на основании философии эллинизма). Соответственно, и учение о спасении человека здесь может быть признано апостольским, в лучшем случае, только наполовину. Согласно Евангелию, спасение сверхъестественно для человека, потому что он генетически происходит от падшего Адама и ему естественно погибнуть, а не спастись. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф 18:11), потому что «человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф 19:26). А если спасение естественно для души как «сродной Богу», то это означает скрытое отрицание фундаментального для апостольской антропологии догмата первородного греха, что не может ни иметь для такой богословской парадигмы серьезных догматических последствий.
Само по себе представление о том, что языческая культура может быть альтернативным источником истинной мудрости и подлинного религиозного знания, независимым от Церкви, имеющей Откровение, т.е. получившей эту мудрость и это знание из божественной трансценденции, – само это уже свидетельствует о нехристианском мышлении, потому что основывается на эллинистическом учении о душе, которая обладает присущей ей по своей полубожественной природе «умной частью», которой якобы врожденны всяческая премудрость и высшее знание о сущем, и поэтому она может их извлечь из самой себя (и, значит, обойтись без Откровения от Духа Истины). Вследствие чего такое ложное мнение не может ни вступить в непримиримое противоречие со Священным Писанием и подлинным учением Церкви, основанной Апостолами Христа. Смешиваясь в один богословский дискурс «царским путем» диалектического компромисса, два этих враждебных друг другу учения («потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим 8:7)) дают в сумме химеру «христианско-платонической» антропологии и сотериологии, или то, что мы называем «православным оригенизмом» и «ортодоксальным полупелагианством». «Маркелл, еп. Анкирский († 374 г.) <...> осуждал последнего и за его излишнюю увлеченность греч. философией, в т.ч. учением Платона, что отрицательно влияло на понимание Оригеном Свящ. Писания (Euseb. Contr. Marcel. I 4. 21 (fragm. 78))» (Заболотный Е.А. Оригенические споры. Православная энциклопедия. Т.53. С.261-268).
При этом даже лучшие из представителей патристики, те, которые осознавали пагубность платонической философии для вероучения и осуждали ее, в целом, в отдельных аспектах антропологии и сотериологии неосознанно продолжали находиться под ее влиянием, потому что эти аспекты уже прочно вошли в церковное Предании и передавались как авторитетная святоотеческая традиция. Например:
«"Мы соделываем себя достойными через покаяние, более же приближаем себя через дела покаяния к Тому, Кто может сотворить достойных из недостойных» (Святитель Григорий Палама)» (митр. Иерофей (Влахос). Православная духовность. Цит. по изд.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра (СТСЛ), 2009. – 135 с.).
Очевидно, что первый тезис святителя («мы соделываем себя достойными через покаяние и приближаем себя делами покаяния к Богу») опровергает второй («Бог может сотворить достойных из недостойных»), а второй – первый, потому что если Бог может сотворить достойных из недостойных, то это и означает, что сам человек не может этого сделать (Мф 19:26), а значит, и покаяние, и дела покаяния – от Бога, а не от самого человека. Ибо если одно только покаяние соделывает достойных из недостойных, а последнее может сотворить только Бог, следовательно, никак иначе Он этого не соделывает, кроме как творя Своею благодатью в избранных покаяние и дела покаяния. О чем прямо сказано в Священном Писании: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Фил 2:13), и в святых молитвословиях Церкви: «даруй мне, Боже, прежде конца покаяние» (Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу / Православный молитвослов). В той же форме, как это учение изложено у свт. Григория Паламы, оно имеет в себе внутреннее противоречие, ибо исторически происходит как раз из византийской традиции «христианского неоплатонизма», или «православного оригенизма» (евагрианского волюнтаризма).
«Иначе говоря, через Таинства Божественная благодать действует в соответствии с тем состоянием, в котором находится наша душа. Так, благодать Божия одного очищает, другого просвещает, третьего обоживает» (митр. Иерофей (Влахос). Православная духовность. Цит. изд.).
Что предполагает, что первые двое прошли начальные два этапа спасения собственными силами и, тем самым, сделались «достойными» следующей (второй «очистил» сам себя, а третий – «очистил» и «просветил»). Ибо если «благодать действует через Таинства» и бывает так, что «очищать» и «просвещать» душу субъекта Таинства не нужно, и поэтому Богу как Совершителю Таинства можно сразу переходить к заключительному этапу «обожения» человека, то это означает, что эта душа «очистилась» и «просветилась» подручными средствами и силами, а именно, естественными добродетелями своей «умной части». Что и является эллинистической ложью Евагрия и Пелагия, осужденной Апостольской Церковью. Потому что в Христианстве все три перечисленных этапа спасения человека совершаются одной только божественной благодатью в церковных Таинствах, а именно, в Таинствах Крещения и Покаяния (в которых происходит очищение от грехов), в Таинстве Миропомазания (в котором осуществляется просвещение дарами Святого Духа) и в Таинстве Евхаристии (в котором происходит соединение со Христом). Поэтому Таинство Причащения – это и есть Таинство обожения, ибо «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6:56) «со Отцем и Святым Духом». Таким образом, Крещение, Покаяние и Причастие – вот евангельская, или единственно православная формула обожения. Изложенная же Влахосом евагрианская («христианско-неоплатоническая») концепция обожения предполагает йогу духовного самолечения и самоочищения организма души от духовных «шлаков», самодеятельного «собирания» разрозненных «частей души» воедино, без чего Бог, дескать, погнушается войти в человека. Языческое происхождение такой теории и практики очевидно. Невозможно представить себе рыбака Симона, сидящего на берегу Генисаретского озера в позе лотоса и усилием воли «сводящего ум в сердце», чтобы «стать достойным» чести первоверховного Апостола. Потому что он стал им сразу после того, как отрекся от Спасителя, и это было так нужно «для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1Кор 1:29), что это она сама заслужила пребывать одесную Христа.
Если в бесовской прелести оригенизма Бог избирает только «Себе подобных», только души, заслужившие такую честь своими достоинствами и доблестями, что-то значительное представляющих из себя в духовном плане, то в апостольском Христианстве, как всегда, все наоборот: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор 1:27-28). Поэтому когда великие каппадокийцы (или антиохийцы, или александрийцы, одним словом, византийцы) говорят о том, что «Бог соединяется с человеком благодаря умной части души», нужно давать себе отчет в том, что они просто повторяют то, что читали у Плотина и Оригена, и поэтому сказуемое диаметрально противоположно словам Апостола, говорящего, что Бог избрал немудрое для того, чтобы посрамить как раз таких книжных умников, как Плотин и Ориген. Потому что «умная часть души» в пневматологии эллинизма – это «срамная часть» души в глазах Бога и Его Апостола, потому что в ней живет высокое мнение о себе, т.е. смертные грехи гордости и тщеславия. В реальности же, будучи Премудростью, Бог Своею благодатью Сам делает немудрое – мудрым и недостойное – достойным, а не удостаивает общения с Собой только достигших платонической добродетели «целомудрия» собственными усилиями, «ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лк 16:15).
Далее. В своих «Посланиях» св. ап. Павел постоянно и на все лады сообщает нам божественную истину о том, что действие принадлежит природе, а не лицу. Это базовый принцип учения Апостола о воле, которая всегда природно-субстанциональная, а не личностно-произвольная («самовластная», «свободная»). И «ветхий» человек (потомок падшего Адама, генетически происходящий от его тотальной греховности), и «новый» человек во Христе как втором Адаме («рожденный от Духа» в Таинстве крещения и движимый Христовой благодатью) действуют не «по своему хотению», но «по велению» той природы, носителем которой он является. Личное «хотение», по Апостолу, – это актуализация «закона природы». Или: пресловутая «свобода воли» – это лишь неосознанная необходимость субстанциональной принадлежности индивида. И нужно быть весьма предубежденным в этом вопросе (т.е. быть носителем идеологии противоположной, волюнтаристической направленности, или эллинистического либертарианского типа), чтобы всего этого не замечать или игнорировать, упорно толкуя Апостола буквально наоборот, наперекор его собственному учению. «Если же делаю то, чего не хочу, то <…> уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим 7:16-17). «Законом [духа жизни в Иисусе Христе] я умер для закона [греховного], чтобы жить для Бога. <…> и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2:19-20), «потому что закон духа жизни во Христе Иисусе» [т.е. Его благодати] «освободил меня от закона греха и смерти» (Рим 8:2); «потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению» (Фил 2:13). «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни» (Рим 5:17-18). И т.д. (очень долго можно приводить апостольские цитаты, аналогичного содержания). «Свобода во Христе», о которой говорит Апостол (Гал 2:4), означает не персоналистическое «самовластие» (восходящее к учению о воле стоиков и Оригена) и «самодвижимость» (восходящее к учению неоплатоников и того же Оригена о душе), но именно «освобождение» индивидуальной воли «от закона греха и смерти» в ветхом Адаме и подчинение «закону духа жизни» в новом Адаме, т.е. субстанциональную «прошивка», или перекодирование природной воли в человеке прямым действием Святого Духа, сродни пересадке здорового сердца вместо непригодного для жизни, только на уровне более тонкого организма души, а не физического тела.
То же самое учение о воле содержится в Ветхом Завете (т.е., разумеется, в Ветхом Завете содержится учение о человеке, тождественное учению Нового Завета, ибо они вдохновлены одним Духом Истины), если, опять же, читать его без либертарианско-персоналистического предубеждения. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня» (Иер 32:39-40). Где «один путь» и означает одну природную волю у субъектов этого рода, или этой природы. Причинно-следственная связь между поступками этой человеческой общности (духовного Израиля, или ветхозаветной Церкви как «избранников благодати» (Рим 11:5)) – это все тот же апостольский примат природы над ипостасью. Все «избранные благодатью» идут «одним путем» не потому, что их личные произволения счастливым образом совпадают, но, наоборот: их персональные изволения и чаяния их сердец совпадают потому, что Творец «вложил» в них «одно сердце», т.е. одну благодатную природу с неотъемлемой от нее качеством воли. Поэтому их частные произволения (в плане жизненного выбора) – это историческая реализация предвечного творческого замысла о них их Создателя, или «предопределения» (в терминах Апостола). Они хотят одного и то же, потому что Всесильный Творец благоволит направлять их волю Своей благодатью. Поэтому как все, как один, потомки падшего Адама «не могут» (Рим 8:7) не отступать от Бога (т.е. не могут не грешить всеми смертными грехами, по причине царствующего в них «закона греха» как духовной «смерти» (Рим 8:2)), так все как один «избранники благодати», напротив, не могут «отступить от Меня», т.е. не могут даже этого захотеть, потому что их индивидуальная воля детерминирована «вложенным» в них «сердцем», т.е. живущей в нем божественной благодатью, непреодолимо удерживающей их воля в покорности благоволению Божьему о них. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом» (Иез 11:19-20). А не так, как это толкует волюнтарист Ориген и иже с ним «православные персоналисты»: каждый из благословенного «остатка Израиля» (Ис 10:20) сначала проявляет какую-либо святую добродетель из перечисленных усилием своей «свободной воли» и, тем самым, удостаиваться быть включенным в число «избранных» и получить за это «новое сердце» и «новый дух» (т.е. благодать). Наоборот, сперва каждому их них, ради обетованного им Искупителя их грехов, дается благодать Духа, которая «производит» в них одно «хотение» и одно «действие», т.е. полностью обуславливает тот «один путь», которым все они идут в своей жизни, «не по плоти живя, а по духу», потому что «Дух Божий живет» в них (Рим 8:9).
Поэтому всякий богословский персонализм и волюнтаризм (что святоотеческий, что модернистский) – это прямое наследие оригенизма как оппозиционной Священному Писанию религиозной идеологии позднеантичного гуманистического толка. «Ведь и душа Иисуса соединяется со Словом свободно, по своему изволению, по пламенной любви к Нему и как бы в награду за свою чистоту. Подобным образом каждая душа по призванию есть вечная невеста Слова; Слово может и должно родиться и в других душах. Этим умаляется единственность и несоизмеримость Христова лика. Открывается какой-то потаенный путь к Богу, в обход Христа. При всем своем универсалистическом размахе Ориген в мистике остается крайним индивидуалистом» (прот. Георгий Флоровский. Противоречия оригенизма / Протоиерей Георгий Флоровский Догмат и история. М., изд-во Св.-Владимир. Братства, 1998. С.299). Поэтому при всем своем антимодернистском размахе Роман Вершилло тоже остается крайним индивидуалистом, потому что целиком и полностью опирается на святоотеческую традицию «православного оригенизма».
«Весь закон личности состоит в том, чтобы подчиниться закону Божию» (Вершилло Р. Чтение, власть и закон личности – Антимодернизм.ру).
Весь Апостол (как книга Нового Завета) состоит в том, что личность не может сама подчиниться закону Божию, поэтому это делает Божия благодать, подчиняя (или покоряя) «личность» воле Божией. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Рим 3:19-20). Поэтому глаголемый «православный антимодернист» Роман Вершилло оказывается таким же псевдохристианским персоналистом и «нравственным монистом», как и самый отпетый из «модернистов» Иерофей Влахос, ибо оба мыслят штампами одного византийского платонизма, или религиозного гуманизма, воспринятого ими из восточной патристики. При этом оба мнят себя истинными ортодоксами, потому что следуют св. Отцам. Но поскольку сами Отцы следовали религиозному индивидуализму Оригена и Евагрия, поэтому и Вершилло с Влахосом исповедуют их доктрину «самооткровения личности», обратную учению Апостола. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во [время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено» (Рим 3:21-27). И вот этим «уничтоженным» Апостолом героическим «подчинением себе закону Божию», как ни в чем не бывало, продолжают хвалиться «православные» персоналисты, выставляя напоказ эти «срамные части» своей «аполлонической» души.
В каком же тогда смысле Апостол называет Закон «путеводителем ко Христу»? Чтобы это правильно понять, прежде всего, следует обратить внимание на то, что это касается и Закона Моисея, и естественного закона совести, которые Апостол уравнивает в сотериологическом значении, сводя его к нулю. Ибо тем и этим законом «познается греховность», а не праведность. «Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, <…> и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, уча другого, не учишь себя самого? <…> Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?» (Рим 2:23). И называющие себя «эллинами» и уверенные в просвещенности и «гармонии» своей души, кичащиеся своим знанием «закона личности» («нравственного закона человеческой природы»), мнящие себя учителями варваров и глупцов, и не видящие, что, тем самым, они «осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце», «называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку», «заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца» (Рим 1:21-25). Поэтому «заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом», «потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его» (Рим 3:19, 23-24). Поэтому и «когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают» (Рим 2:14), и когда иудеи делают заповеданное писанным Законом, они должны познавать не свою праведность, но, наоборот, свою греховность, потому что в том-то и суть, что они делают это не «иногда», в остальное же время поступают против Закона, естественного и писанного, т.е. против «категорического императива разума» («закона личности») и против буквы Закона Моисея. Поэтому и совесть, как и буква Закона, должна сигнализировать об их беззаконии, а не об их «личностном росте». Вот в каком смысле Закон Моисея является проводником или гидом ко Христу у Апостола, т.е. к Спасителю как Агнцу-Искупителю, берущему на Себя возмездие за их персональные грехи. «Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим 5:7-10). А не в том смысле, как это прочли Галаты и Римляне, Ориген и Пелагий, Каппадокийцы и Антиохийцы, модернисты и антимодернисты, т.е. в противоположном смысле естественной «теогонии» души, в неоплатонической парадигме «духовного развития личности», когда «умная часть души» («разум», или «совесть», или «нравственная природа человека») «органично» приводит его ко Христу как Идеалу этих «начал» Ума и Добра, явленных в самой душе в меньшей степени или потенциально, как в ребенке. Христос исполнил сразу весь Закон, приняв полагающуюся по Закону смерть для его нарушителей, а не доведя его частичное исполнение иудеями до совершенства по принципу от меньшего к большему. Не частичное исполнение Закона «вменилось им в праведность» (Рим 4:3; Гал 3:6) и «достоинство» стать учениками Христа, но, наоборот, одно только сознание своего совершенного недостоинства этого и милости к ним Бога, даровавшего им в том числе – и само это сознание (т.е. покаяние и веру в Искупителя).
В этом, по Апостолу», и заключалась «несмысленность» еще наполовину языческого сознания галатов, которые полагали, что «через дела закона» они «получили Духа» (Гал 3:1), т.е. благодать Христову. Т.е. они тоже думали, что сугубо личное исполнение Закона вознаграждается получением благодати. Что Апостол категорически отвергает и противопоставляет этому недомыслию истинное учение о «получении Духа через наставление в вере в Христа распятого у вас перед глазами» (Гал 3:1-2) за преступление Закона всеми подзаконными, а не за его соблюдение. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона [сие производит] или через наставление в вере?» (Гал 3:5). И не сказано «за веру» они «получили Духа», но за «наставление в вере», потому что веру они тоже получили даром благодати Того же Духа как Наставника самих наставников. Поэтому заключение Апостол из всего сказанного: «что ты имеешь, чего бы не получил?» (1Кор 4:7) от Духа. И волюнтаристическое толкование Оригена и Пелагия оказывается тем же самым представлением «несмысленных галатов» (Гал 3:1): исполнение закона естественно и последовательно приводит ко Христу как несовершенное к совершенному, часть к целому, неполное к полному, детство к зрелости и т.д.
«...следовать разуму, соединяя в своей жизни мысль и действие, очень легко и до конца понятно. Это соответствует природе человека» (Вершилло Р. Чтение, власть и закон личности – Антимодернизм.ру).
И это типичное язычество, потому что также учили Толстой и Достоевский, Блаватская и Рерих, Кант и Руссо, тамплиеры и каббалисты, Джованни Мирандола и Джордано Бруно, Пелагий и Ориген, Плотин и Платон. То, что в Христианстве невозможно для падшего в Адаме человека (исполнить Закон Божий) в бесовской прелести язычества «легко и просто». «Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим 8:7). Т.е. не могут в принципе, как слоны – летать. Поэтому Вершилло прямым текстом отрицает влияние первородного греха на разумную природу души, согласно догмам «православного оригенизма» и «святоотеческого пелагианства».
«Природа разумно устроена Богом. И человеческий разум есть часть этой [«первой», т.е. первозданной. – А.Б.] реальности, и поэтому способен понимать в природе то, что в ней разумно. Вот почему Святые отцы говорят о разумном деянии как о чем-то непосредственно исполнимом: человек должен соединить правую мысль с правым действием, он должен свободно совершать разумный выбор наилучшего и при этом хорошо знать, что есть наилучшее. Это и значит: идти к свету, и знать, что этот свет не есть тьма (Мф. 6:23)» (Вершилло Р. Чтение, власть и закон личности – Антимодернизм.ру).
Т.е. каждый способен идти к Свету, потому что имеет «светлую» («разумную») природу, созданную по образу и подобию Бога как «Первого Света» (или «Первого Ума»). А если не идет, то только по личной вине недоразвитости как «Человеческая Личность». Ср.:
«Бог сотворил и мир и закон и совершил еще чудо – указал нам закон Христом, на примере, в живье и в формуле. Стало быть, несчастья – единственно от ненормальности, от несоблюдения закона <…> Уклонения ужасно могут быть разнообразны, но все зависят от недостатка самообладания» (Достоевский Ф. Бесы. Подготовительные материалы / Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Л., «Наука». 1974. Т.XI. С. 121-122).
Тогда как в Евангелии «никто не может прийти» к Свету, если Сам Свет «не привлечет» его Своею благодатью (Ин 6:44). Или: «всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин 18:37). Тут же (в этом срамном «богословии личности») все от Истины по своей природе, все могут свободно покорить себя «Первому Свету» и летящей походкой идти к Нему навстречу. Точно так же и Ориген с Пелагием попеременно ссылались то на Матфея, то на того или иного «корифея» античного «добротолюбия», и поэтому также шиворот-навыворот толковали Священное Писание.
Но, опять-таки, как и Влахос, к классическому пелагианству в антропологии и оригеническому персонализму в сотериологии Вершилло приводят, прежде всего, сами великие каппадокийцы и антиохийцы, а не кто-то еще. Потому что они тоже вполне «платонически» толкуют все эти вопросы.
«Мне кажется, что Он именуется <…> “Светом” (Ин 8:12), как светлость душ, очищенных в уме и жизни. Ибо если неведение и грех — тьма, то ведение и жизнь Божественная — свет» (свт. Григорий Богослов. Слово 30 / Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Т. 1-2. СПб, изд. П.П. Сойкин, 1912. Т.1. С.441-442).
Т.е. к Логосу естественно приходят все «светлые душ, очистившие» себя посредством «умной части души» как «внутреннего логоса», или самовластным «покорением закону Божию», который тождествен «природе души»… В то время как в Евангелии Он именуется Светом, потому что Он – единственный его источник «для сидящих во тьме и тени смертной» (Мф 4:16).
В том же идеалистическом духе толкует и Златоуст:
«Пестун не противодействует учителю, но содействует ему, удерживая юного питомца от всякого порока и со всем тщанием приготовляя его к принятию учительских уроков; а когда питомец приобретет навык, пестун наконец оставляет его» (свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание Галатам. 3.5 / Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1904. Т.10. Кн.2. С.784)
Именно за это Апостол и называет галатов и римлян «несмысленными». Потому св. Павел говорит о том, что «пестун» (Закон Моисея) содействует Учителю (Христу-Богу) не тем, что научал «питомцев» азам Истины и давал им навык очищения от греха, но тем, что Закон обнаруживает их систематическое противодействие Истине. Ясное дело, что не Закон противодействует Законодателю и Судии, потому то это делают подзаконные своими рецидивистскими преступлениями Закона. Вот в каком значении Закон вел ко Христу: он делал подзаконных совершенно виновными и заслуживающими смертной казни. Чтобы эту Казнь за преступление ими Закона претерпел Агнец Божий. «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому [относится] обетование <…> Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа» (Гал 3:19-22). Т.е. Закон был дан Израилю с тем же условием, что и заповедь Адаму в Эдеме, а именно, что нарушитель Закона «смертию умрет» (Быт 2:17). Великие же каппадокийцы и антиохийцы толкуют так, что получается, что не только Закон, но и сами подзаконные содействовали (а не противодействовали) Законодателю. Но зачем же тогда Апостол тут же говорит о Кресте Господнем? За что же распинать Учителя, если Его ученики приготовили уроки и вообще были должным образом подготовлены ко встречи с Ним? «Грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Рим 7:13), – вот ключевая фраза Апостола, которую стараются задвинуть на задний план толкования. Закон был нужен только для того, чтобы беззаконие подзаконных стало достойным высшей меры наказания и чтобы они это осознали, увидев всю преступность своей натуры, которую они неспособны исправить собственными силами и поэтому нуждается в Искупителе, Который избавит их от самой их греховной природы, генерирующей беззакония, и понесет вместо них соответствующее Закону наказание. «…все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона», поэтому «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою — ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, — дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою» (Гал 3:13-14).
И поскольку смысловые акценты в каппадокийском и антиохийском толковании расставлены, мягко говоря, совсем не так, как у Апостола, это позволяет Вершилло много цитировать представителей этих богословских школ (Златоуста, в первую очередь) и выводить из их экзегезы свой религиозный гуманизм и персонализм, не хуже Влахоса.
«Настоящая жизнь есть ристалище, упражнение и борьба, печь, мастерская для добродетели. Желая приготовить души к добродетели, Бог и угнетает их, и удручает, и подвергает самым тяжелым испытаниям, так чтобы падающих и слабых устранить, а людей достойных сделать еще более достойными, недоступными для наветов демона и для сетей диавола, и особенно всех достойными получения будущих благ» (св. Иоанн Златоуст / Антимодернизм.vk).
Одно дело из недостойных сделать достойных, т.е. из грешных – святых, что под силу одному только Богу и о чем повествует Евангелие. Другое дело сделать достойных по своему образу жизни еще лучше, что является принципом естественного развития в платонизме. Первое дает сознание своей греховности и делает возможным покаяние, второе прививает сознание своей духовной элитарности, что является отличительной чертой спиритуализма гностического типа. Отсюда (т.е. непосредственно из святоотеческого дискурса) и такие казусы богословского модернизма как «православное пелагианство» и «православный оригенизм» персонализма.
«…читая [роман Германа Гессе «Игра в бисер». – А.Б.], ты обнаруживаешь закон личности в себе и над собой, а в этом и состоит возведение частного [«Ее Светлости души». – А.Б.] к общему [Богу как «Первому Свету». – А.Б.]. Весь закон личности состоит в том, чтобы подчиниться закону Божию» (Вершилло Р. Чтение, власть и закон личности – Антимодернизм.ру).
Сделать дурных хорошими и сделать хороших еще лучше – в этом и состоит принципиальное отличие Христианства от всех форм языческой духовности и этики. Христос пришел «призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф 9:13). «И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними» (Лк 13:30). А Платон и Плотин, Ориген и Пелагий, Кант и Достоевский пришли призвать как раз «первых», или «лучших из людей», к покорению новых духовных вершин. Потому что это «естественно и возможно» (Достоевский) из самой природы человеческой души, в которой есть все необходимое для этого, нужно только дать ему ход.
«Интеллектуал должен связать себя, найти один и тот же закон внутри и вне себя, а затем ему подчиниться: "Чем выше должность, тем глубже связанность. Чем больше могущество должности, тем строже служба". Здесь, между прочим, Гессе предлагает реалистический выход, а не утопический» (Вершилло Р. Чтение, власть и закон личности – Антимодернизм.ру).
Но вопрос не в том, должен ли человек подчиниться Закону (разумеется, должен), но в том, может ли он это сделать. И самый реалистичный ответ на него – это ответ Апостола, потому что через Апостола говорит Сам Бог. И ответ этот – безусловное «нет»: человек бессилен подчиниться Закону. «Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое» (Рим 7:21). А Интеллектуал, или Магистр, может подчиниться Закону силою воли. Потому что Интеллектуал находит другой закон – «закон личности», обратный закону человеческой природы (падшей в Адаме), выведенному Апостолом, а именно: когда Интеллектуал хочет делать доброе, ему прилежит доброе в виде этого самого «закона личности». И это именно утопия (на языке философии), или ересь (на языке богословия). Именно за эту «утопию» Апостольская Церковь осудила Пелагия, в учении которого это «закон личности» звучал следующим образом: «человек может быть без греха, если захочет». Т.е. «если строго свяжет себя категорическим императивом» – на языке Ордена Магистров, или Интеллектуалов.
«Касталия – сообщество людей, нашедших свой внутренний закон, единый для всех здоровых характеров, и следующих этому закону» (Вершилло Р. Темы романа «Игра в бисер». Закон личности – Антимодернизм.ру).
Здесь и проходит граница между персонализмом и апостольским Христианством: «здоровый характер», или «сильно развитая личность» (как говорил другой Магистр Всечеловечности) способна непреклонна следовать внутреннему закону природы и Божьим заповедям как внешнему Закону, а остальные (те, что неспособны) таковы по причине приобретенных «духовных болезней», слабости характера, неразвитости воли, одним словом, «недочеловечности» (в кавычках – термины Вершилло). Потому что отличие добрых от злых, умных от глупых, достойных от недостойных лежит в области индивидуальной, а не общей воли, в законе личности, а не в законе природы. Потому что природа у всех одинаково добрая, умная и достойная высших благ (т.е. Царства Божьего). Поэтому такое «христианство» следует признать эзотерическим, ибо оно, во-первых, альтернативно Апостольскому, а во-вторых, рассчитано на узкий круг «лучших из людей», воплощением которого и выступает Орден Интеллектуалов (вроде касты философов в утопии Платона), «житие» которого описано в романе Гессе. И это именно та «мудрость мира сего», которую Апостолы назвали «безумием» (1Кор 1:20), ибо она «не есть мудрость, нисходящая свыше, земная, душевная, бесовская» (Иак 3:15).
«Гессе отказывается совершать ту характерную для либерального мышления подмену, когда внутренний закон означает свободу от всякого закона» (Вершилло Р. Магистр и люди. Игра в бисер – Антимодернизм.ру)
Т.е. в отличие от либералов-софистов, Магистр «науки личности» может быть без греха, настолько властен он «связывать» себя «внутренним законом». Савл говорит, что не мог, потому что, будучи фарисеем, недостаточно радел, а Магистр Мудрости может, ибо он более развит как Личность.
«Вопрос о соединении практики и теории решается очень просто. Нужно право мыслить и верить в истину, а также поступать в соответствии с истинной верой и правильными мыслями. <...> На этом пути мысли, чувства и дела человек призван бесконечно преуспевать в трех добродетелях: вере, надежде и любви. Любовь здесь выступает как совершенство добродетелей, соединяя мысль, дело и чувство, вообще всё, что в нас разделено. “Любовь связует и не дает рассеиваться тому, что есть в нас прекрасного, хотя по природе мы и рассеянны” (св. Григорий Богослов)» (Вершилло Р. Игра в бисер. Предисловие – Антимодернизм.ру).
Т.е. вера, надежда и любовь, эти высшие добродетели Христианства, в нас, человеках, естественно «прекрасны»; они есть в нас как в людях (по богоподобной природе нашей души), а не как в христианах (по божественной благодати Христа). В этом принципиальное отличие того, о чем говорит Апостол, и того, о чем говорит великий каппадокийец, повторяя за Оригеном (потому что в IV в. большинством в Церкви Ориген почитался за святого учителя веры). Поэтому и неоплатоник Герман Гессе оказывается, по сути, тех же антропософских взглядов. Вершилло же, в свой черед, только обнаруживает общность антропологии каппадокийца Григория и кастальца Германа, поэтому и принимает последнего за «своего».
Такова гностическая подмена христианских понятий, которая, в силу парадоксов церковной истории, остается незамеченной даже для членов Церкви с большим стажем. Для сравнения пример этого же метафизического «высера» из другого произведения Гессе.
В конце повести «Кнульп» (1907-1913) автор находит остроумным сделать Бога своим резонером и вложить в уста Всевышнего следующий монолог, объясняющий главному герою смысл прожитой им жизни.
«Ты все еще не догадался, дитя неразумное, в чем был смысл всего? <...> Ты что, и в самом деле не понимаешь, что все было хорошо и не могло быть иначе? <...> ты Мне был нужен такой, какой ты есть. Во имя Мое ты странствовал и пробуждал в оседлых людях смутную тоску по свободе. Во имя Мое ты делал глупости и бывал осмеян; это Я Сам был осмеян в тебе и в тебе любим. Ты дитя Мое, брат Мой, ты частица Меня Самого, все, что ты испытал и выстрадал, Я испытал вместе с тобой» (Герман Гессе. Собрание сочинений в 4-х т. СПб., "Северо- Запад", 1994. Т.2. С.85-86).
Говорить от лица Господа Бога – это уже само по себе богословский моветон. Т.е. сам этот литературный прием уже указывает на то, что перед нами типичный гностик с мозгами из религиозного секонд-хенда. Поэтому никаких другие «безвестные и тайные премудрости», кроме пошлых афоризмов «богословия личности», «бог» Германа Гессе не может поведать человеку. «Где-то внутри тебя есть настоящее (добро, разум, красота), сделай ему навстречу шаг», «следуй зову своего сердца», «будь самим собой и все будет хорошо», «нет для нас расстояний», ибо «все люди хорошие по своей природе»... Если в апостольском Христианстве «прилежит нам злое», от диктатуры которого в нашей жизни только Христос-Бог может нас спасти, то здесь Его спасительная «частичка» априори находится в самой твоей душе. Эти же слащавые «максимы» «теологии человека» мистическим шепотом вещает Иешуа на страницах оккультного романа Булгакова. Потому что у всех «эзотерических христиан» одни и те же «музы» из отряда «астральных» парнокопытных...
И то, что борец с церковным модернизмом Роман Вершилло на старости лет взялся популяризировать «лжеименное знание» Германа Гессе, можно рассматривать как закономерный итог (или «смысл») уже его собственной жизни. Ту же блудную «синергию» когда-то осуществил Андрей Кураев с романом Булгакова. Подобным образом (пусть и не в той же степени) представителям византийской патристики нельзя было избежать искажения евангельского учения о человеке и его спасении, используя в своем богословии мифологемы неоплатонической философии и оригенизма. Поэтому прийти к неооригеническому «богословскому персонализму», к неопелагианской антропологии, к неокантианской «метафизике нравственности» и другим формам квазирелигиозного гуманизма можно, читая одну восточную патристику и беря из нее только сентенции эллинистического идеализма. Именно так Роман Вершилло пришел к апологии творчества очередного немецкого неоплатоника эпохи модерна. Поэтому цитаты Златоуста здесь так органично обрамляют «жемчужины» гностицизма Гессе.
«Разрыв между жизнью и мыслью – личный, случайный. В общем и обычном плане такой проблемы не существует» (Вершилло Р. Игра в бисер. Предисловие – Антимодернизм.ру).
Ср.: «Желание добра есть во мне, но чтобы делать его, того не нахожу» (Рим 7:18), ибо «в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим 7:23). Диаметральная противоположность доктрин очевидна. Потому что «богословский» персонализм – это жизненная философия языческого, или «плотского» сознания, которое не принимает слова Божьего, «да и не может» (Рим 8:5-7; Ин 6:44), т.е. не может именно на субстанциональном, а не на личном уровне, потому что сама его ветхая природа заражена «плотскими помышлениями» как неприятием Божьего.
«Даже небольшое нарушение равновесия между мыслью и делом, например, преобладание действия над мыслью или наоборот, уже говорит об ослаблении безграничной любви к Истине (Мф. 22:37)» (Вершилло Р. Игра в бисер. Предисловие – Антимодернизм.ру).
Одно только применение слова «безграничное» (тем более – «безграничная любовь») в отношении эмпирического человека уже говорит о том, что автор утратил связь даже с реальностью, не говоря уже о Христианстве. Правильное толкование упомянутого евангельского фрагмента («возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф 22: 37-40)) дает только Апостол, объясняя, для чего дан Закон (а не какие ни великие каппадокийцы или антиохийцы, попавшие под обаяние эллинистического идеализма точно так же, как Вершилло – под очарование гностической утопии Гессе). А именно: «я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай» (Рим 7:7). Что в отношении первой заповеди в Законе означает: «я не иначе узнал бы о том, что не могу возлюбить Бога всем сердцем и всем разумением, если бы Закон ни говорил мне: возлюби всем сердцем и всем разумением». Какой грех обнаруживается посредством Закона Божьего? – Разумеется, первородный грех, который перешел в природу ветхого человека, сделав ее греховной. «Безграничную» же любовь к Богу способна производить только Христова благодать в новом человеке (т.е. «рожденном от Духа» в Таинстве крещения): «да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф 3:16-19). Казалось бы, не самая сложная мысль, тем более Апостол так терпеливо разъясняет ее своим «несмысленным» адресатам в каждом Послании. Но, как мы видим, и доныне (т.е. вот уже две тысячи лет!) ее понимают с точностью до наоборот, т.е. по Оригену и Пелагию.
Не для того, несмысленные эллины и скифы, дан Закон, чтобы спасать исполняющих (ибо падшему человеку это невозможно), но для того, чтобы осудить преступающих, т.е. всех в падшем Адаме, и спасти избранных – благодатью нового Адама. И поскольку эта божественная премудрость не укладывается в безобразном сознании язычника, Пелагий возражал Апостолу коронным аргументом напыщенного недомыслия: «Бог не мог бы дать человеку неисполнимого закона». Т.е. вслед за римлянами с галатами не разумел возомнивший о себе несмышлёныш, что поскольку Закон Божий совершен и свят, он и рассчитан на Святого Человека. А поскольку природа эмпирического человека греховна, а не совершенна, он онтологически не может исполнить Закон. «Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. <…> Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху» (Рим 7:12-14). Поэтому единственное, что требовалось от ветхого человека («плотского» самой «умной частью» своей души) – это осознать эту объективную реальность, т.е. непреодолимую для себя греховность своей природы, и уповать на Того Святого Святых, Кто один может исполнять весь Закон и тем спасать не могущих.
Таким образом, по Апостолу, «разрыв между жизнью» (практикой) «и мыслью» (теорией, или Законом) не просто не «случайный», но в высшей степени закономерный, ибо он произведен Божьим судом над человеческой природой, падшей в Адаме. Соответственно, тех, для кого этот «разрыв случаен», по большому счету, нельзя даже считать христианами, ибо они до сих пор не усвоили первичных догматов христианской антропологии и сотериологии.
Александр Буздалов

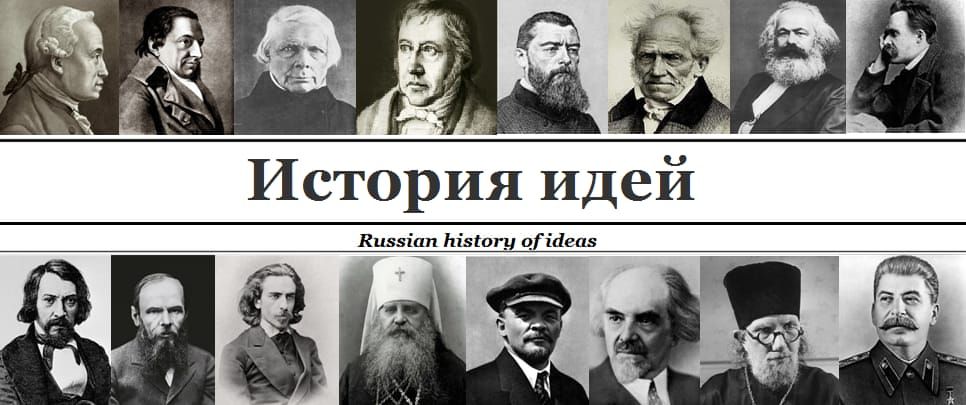





Комментарии
Сергей
2025-07-14 10:02:13
Спасибо. Вот еще словечко - маркер - "развитие", извивание... Родился, посамоизвивался - и отошел во тьму... Так и видится древний змий в этом развитии
Сергей
2025-07-19 21:09:01
К сожалению это уже дух современного мира, все дальше уходящий от Бога... "Извивания", "росты", "достоинства", "недостатки" - этих слов даже близко нет в Священном Писании. И ими переполнены современные книги, даже хорошие , даже людей духовной жизни.. Читаю сейчас Н. Воробьев "Письма" и Крестьянкин "Письма".. И там тоже - 'росты', 'извивания'.. и тп.. Чего уж от Вершилло хотеть...
Павел
2025-07-24 06:12:21
Проблема РА в том, что он просто давно подвёл защиту Православия под свою вкусовщину, особенно под старость лет. Это и увлечения немецкими философами и романтиками, отцами РПЦЗ, без всякой критики. Арх. Феофан Полтавский святой просто и всё (хоть и ни кем не канонизированный), и наше знамя, потому что дескать в свое время пошел против всех, и обличил всех сурово. Хотя до этого поспособствовал и Гришке Хлысту; и святой, действительно святой Иоанн Кронштадтский показывал явное презрение к покровителю антимодернизма. И не понятно, в какой юрисдикции был архиепископ Феофан на момент кончины, судя по всему ни в РПЦ, ни уже и не в РПЦЗ. Что очень похоже - вне Церкви. Но всё, или практически всё, было принято и потом ретранслированно без ревизии, и собственные вкусы и взгляды (опять же при помощи в том числе отцов и "отцов" разных веков) - как новые догматы. И получилось, что и сам РА стал тем "новым богословом", которых обличал в своё время еп. Виктор Островидов. Приняв аргументацию, Роман Вершилло не принял и не понял сути слов ни священномученика Виктора, ни многих других авторитетов глаголеемого антимодернизма. Яркое, действительное интересное явление в свое время, даже ещё лет пять назад, но сегодня скатившееся в гностицизм и дьявольскую гордыню собственной непререкаемости. Помянем
Буздалов А. - Павлу
2025-07-24 15:02:19
Здравствуйте, Павел. Вынужден немного Вас поправить. ++РА... подвёл защиту Православия под свою вкусовщину++ Вкусы в данном случае являются выражением, несомненно, ложных богословских идей. Т.е. за дурновкусием стоит лжехристианство. Поэтому и о подлинной ++защите Православия++ речи тут быть не может. "Богом" Вершилло оказался "Порядок в Душе Человека", какое уж тут Православие. В это же "бога" и Достоевский верил, и Соловьев, и все-все-все модернисты верят в одного него же самозабвенно.
Павел - Александру Б.
2025-07-25 06:07:24
Здравствуйте, Александр! Да, так и есть. Вкусы стали выше Истины в какой-то момент. Более того, вкусы стали равны догматом. Но как Вы сами показали и показываете на разных примерах - основой этому во многом послужило святоотеческое наследие. Которое на вопросы допускающие разные мнения отцов Церкви, точно так же оказалось удобным и для вкусов/новых догматов. Поэтому, если вкус к толкованию Удерживающего в редакции св. Иоанна Златоуста выше слов апостола Павла, то это как-раз взгляд без ревизии, какая-то слепота и сектантское упорство. И если уважаемый на так называемом антимодернизме св. Иоанн Кронштадтский смел ругать императора Николая Александровича (самого "удерживающего"), то конечно отец Иоанн ошибался, немного не понял... Да, тут интересно и эта общность с модернистами, но даже и отчасти с иезуитами. Что удивительно, ведь РА сам когда-то разбирал труд Паскаля Письма к провинциалу, с его критикой иезуитов, с их "вероятностью мнений", когда в разных случаях применяются разные цитаты и разные взгляды авторитетов, или в контексте тех времён мнимых авторитетов. Странно только, что не применил к себе, когда вероятность одних мнений поставил выше других. Ведь то, о чем писал Паскаль, актуально не только в отношении модернистов сегодняшних, но и тех, кто им якобы противостоит. И вот тут кстати очередной пример, когда вкус к трудам авторитета, в данном случае Паскаля, не принес совершенно никакой пользы тому, кто их "профессиально" разобрал
Буздалов А. - Павлу
2025-07-26 01:00:21
по поводу Удерживающего в ложном толковании Златоуста... Вершилло предпочел эту версию как раз потому, что она является главным догматом его религии Порядочного Человека. Кесарь в качестве Удерживающего - это и есть апофеоз Порядка в Душе Человека, который так себя упорядочил, что и в других душах может Порядок массово наводить, все и вся может построить, ибо сам уже достиг абсолютного Порядка в Душе. И после «отъятия» такого Человечища, конечно, уже никакого порядка ни в ком и ни в чем не может быть... Вот она какая, «вера православная», «святоотеческая премудрость»
Павел - Александру Б.
2025-07-26 05:58:24
И вот тут встаёт дилемма между собственной мифологией (безусловно святоотеческой) и реальной жизнью. Если Удерживающий так всё удерживал и так всё упорядочивал, то как же издал манифест 17 года, создавая думу, которая должна была по идее помогать удерживать и упорядочивать. Как другом семьи признавал Гришку, прохвоста, смещавшего с кафедр архиереев, ненавидимый всеми и по делу. Как с завистью, и не без влияния императрицы, относился к Столыпину и Николаю Николаевичу, многие действия которых приносили действительно пользу стране. Но ставшие слишком популярными, во вред "удерживающему". И как получилось "вокруг измена, трусость и обман", когда это "вокруг" ты сам и создал. На все эти вопросы, и многие другие схожие, Роман Вершилло не ответит никогда, будет игнорировать очевидное и уходить от ответа. Это поведение сектанта
Буздалов А. - Павлу
2025-07-26 14:51:15
Да что там Думу, он, «удерживающий», всех будущих обновленцев поставил на кафедры, тех, что самый церковный модернизм и учинили
Сергей
2025-07-26 22:43:41
Скажите , пожалуйста. "развитая личность" , извивающаяся личность. Это понятие произошло от Уробороса?
Буздалов А. - Сергею
2025-08-01 02:06:10
«...самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы» (Достоевский Ф. Зимние заметки о летних впечатлениях).
Сергий
2025-11-29 14:19:54
"Удерживающий царь" - логическое продолжение гностической "святой руси". Весь мир во зле лежит, но не некая особенная страна - которая удерживает и хранит... То православие, то коммунизм, неважно - важно, что они единственно верные и правильные, великие, вообще "святые", не то что загнивающий запад или "старый человек".. Такое дьявольское беснование по гордыне.