«…будучи частицей Бога»
Дата создания:

Святитель Григорий
Богослов, архиепископ Константинопольский, фрагмент иконы, Ярославль.
Во второй главе «Амбигвов к Иоанну» преп. Максим делает толкование известных слов свт. Григория Богослова (Назианзина) о том, что душа является «частицей Бога», т.е. пытается православно интерпретировать этот очевидный атавизм неоплатонизма у прославленного Учителя Церкви. Потому что идиомой «частица Бога» (или «часть Божества») у великого каппадокийца выражалась креационистическая теория происхождения души непосредственно из божественного «дыхания», о чем, как он считал, говорится в 7-м стихе 2-й главы Книги Бытия («И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою»). Что является ошибочным мнением, распространенным в тот переходный период от религиозной философии поздней античности к подлинной церковной мысли. «Сие выражение <...> по изъяснению Никиты, толкователя слов св. Григория, означает дыхание жизни, которое Бог вдунул в лицо первозданного человека (Быт. 2:7), и вместе – образ Божий» (свт. Григорий Богослов, архиеп. Константинопольский. Творения в двух томах. М., «Сибирская благозвонница», 2007. Подготовка текста: Московская Духовная Академия под руководством иеромонаха Евфимия (Моисеева). Руководитель проекта: профессор, доктор церковной истории А. И. Сидоров. Т.1. С.178). Что означает, что великий каппадокийец понимал Быт 2:7 еще в модусе неоплатонической эманации, или так же, как, например, Филон Александрийский. «Д.<ушой> обладают как люди, так и животные. Однако только человек наделен “особым умом” (νοῦς ἐξαίρετος), к-рый и есть д.<уша> в полном смысле слова, “некая душа души” (ψυχῆς τινα ψυχήν – Philon. De opif. 66). И только благодаря этой дарованной ему Богом д.<уше> человек знает о Боге. Главная составляющая д.<уши> (νοῦς) управляет др. ее частями. <…> сущностью разумной части д.<уши> является Божественное дыхание (πνεῦμα θεῖον), данное Богом человеку при творении (ср.: Быт 2.7). Это дыхание является отблеском (ἀπαύϒασμα) Божественной природы (μακαρίας κα τρισμακαρίας φύσεως – De spec. leg. IV 123), Божественной частицей (ἀπόσπασμα θεῖον – Leg. all. III 161), поэтому высшая часть д.<уши> по природе бессмертна (De opif. 135). <…> В период классической патристики в трудах св. отцов и учителей Церкви и в определениях церковных Соборов было четко сформулировано учение Церкви о происхождении д.<уши> первого человека. Церковью были отвергнуты ложные мнения гностиков, манихеев и присциллиан о происхождении д.<уши> из сущности Бога и утвержден догмат о непосредственном творении Богом д.<уши> первого человека из ничего (5-й анафематизм Cобора 561 г. в Браге – Enchiridion symbolorum. N 455), что кратко выражено в словах блж. Августина: “Душа так произошла от Бога, что не есть сущность Бога… не рождена из сущности Бога и не произошла из сущности Бога, но сотворена Богом; и сотворена не так, что в ее природу обратилась какая-либо природа тела или неразумной души, а так, что [она сотворена] из ничего» (de nihilo – Aug. De Gen. VII 28. 43). <…> Вместе с тем при описании способа творения д.<уши> , так же как и в доникейский период, богословы продолжают опираться на библейскую аналогию: “дыхание” – “вдуновение”. <…> Свт. Григорий Богослов также утверждал, что Бог, сотворив тело первого человека из предсуществовавшей материи, “от Себя вложил дыхание, что в слове Божием известно как разумная душа и образ Божий” (Greg. Nazianz. Or. 38. 11; 45. 7)» (Фокин А. Р. Душа. Православная энциклопедия. Т. XVI. М., 2007. С. 449, 455–456). Накопленный Церковью к VII в. опыт в решении этого спорного вопроса уже позволял преп. Максиму в своем толковании данного теологумена Назианзина изложить проблему таким единственно правильным образом, т.е. прямо сказать об ошибочности «александрийской» экзегезы стиха Быт 2:7 у великого каппадокийца. Но вместо этого Максим выбирает другой путь, что негативно сказывается уже на его собственной антропологии и сотериологии.
Собственно говоря, сами «недоумения» или «трудности» (греч.: «амбигвы»), которые возникали у христиан, читавших сочинения свт. Григория (как и других великих каппадокийцев) в V-VII вв., это недоумения по поводу его рудиментарного оригенизма и неоплатонизма. Не иначе как по причине большого количества вопросов, накопившихся у церковной общественности к богословию Назианзина, преп. Максим вызвался их разрешить, т.е. показать, что, дескать, волноваться не о чем и не нужно смущаться. Но поскольку влияние оригенизма на Григория Богослова разумными средствами отрицать невозможно и, в частности, неоплатоническая теория «естественного теозиса», или происхождения душ («умов») путем эманации из божественной сущности (или «Первого Ума»), присутствует в его трудах самым явным образом, неблагодарность этой затеи Максима (т.е. оправдания лжехристианского учения) выражается в самом его стиле, вынужденном изворачиваться и, тем самым, только запутывать вопрос все больше. Но хуже всего то, что, выбирая ложную стратегию объяснения богословских ошибок в трудах великих каппадокийцев, преп. Максим обрекает и самого себя, и своих доверчивых читателей на рецепцию их умеренного оригенизма. Потому что вместо однозначного отверждения ложных идей неоплатонизма в богословском наследии авторов этой школы Максим осуществляет их «воцерковление», т.е. ратифицирует их как вероучительную норму. Поэтому и собственная антропология и сотериология Максима, которые складывается у него путем подобного рода оправдания каппадокийского оригенизма, объективно не могут считаться в полной мере соответствующими Священному Писанию и учению Апостолов. Когда мы читаем в аннотации к данному сочинению преп. Максима на православном ресурсе:
«прп. Максим, разъясняя трудные места в сочинениях свт. Григория Богослова, полемизирует с оригенистами и с радикальным антиоригенистами» (Аннотация Азбуки Веры),
то это и означает, что его собственная позиция является «средней» между крайними оригенистами и антиоригенистами, поэтому он полемизирует с ними обоями, т.е. «идет царским путем между Сциллой и Харибдой» по заветам другого близкого к каппадокийцам умеренного оригениста «аввы» Евагрия.
Сами по себе слова Назианзина, вызывающие «трудности» понимания у всех «подлинных Израильтян, в которых нет лукавства» (Ин 1:47), звучат так:
«Не для того ли Бог ввел нас в сию борьбу и брань с телом, чтобы мы, будучи частью Божества и проистекши свыше, не стали надмеваться и превозноситься своим достоинством и не пренебрегли Создателя, но всегда обращали к Нему взоры и чтобы сопряженная с нами немощь держала в пределах наше достоинство?» (свт. Григорий Богослов. Слово 14, 7 / PG, 35, 865С / Здесь и далее цитируется по изд.: свт. Григорий Богослов, архиеп. Константинопольский. Творения в двух томах. М., «Сибирская благозвонница», 2007. – 895 с. Подготовка текста: Московская Духовная Академия под руководством иеромонаха Евфимия (Моисеева). Руководитель проекта: профессор, доктор церковной истории А.И. Сидоров).
Совершенно неприемлемым для православной догматики здесь является не только намек на неоплатоническую теорию эманации («наше проистекание свыше», т.е. из «дыхания Бога»), но и неразрывно связанное с ней оригеническое понятие «нашего достоинства», которое (sic!) в изложении великого каппадокийца не теряется и после грехопадения. «Божественное достоинство» происхождения наших душ, говорит Григорий, не должно нас надмевать. Поэтому, говорит, оно промыслительно и обременено «немощью плоти» в воспитательных целях... Что, собственно, уже обратно Евангелию. Сама постановка вопроса о каком бы ни было «нашем достоинстве» после грехопадения Адама в апостольском Христианстве невозможна. Вот с чего Максиму следовало начать свой комментарий этого типичного поздне-эллинистического гуманизма у Григория. Т.е. даже независимо от того, что тот имел в виду «под нашим проистеканием свыше (в качестве) частицы Бога», само оригеническое понятие «нашего достоинства», которым он постоянно оперирует, делает его антропологию априори нехристианской. «Грешно превозносится достоинством своего небесного происхождения, а относиться к нему философски – вот это по-нашему, по-православному, это и есть истинная добродетель», – вот мысль Назианзина кратко. Что подтверждается продолжением этой фразы:
«Чтобы мы знали, что мы вместе и весьма велики и весьма низки, земны и небесны, временны и бессмертны, наследники света и наследники огня или тьмы, смотря по тому, на какую сторону преклоним себя? Так устроен состав наш, и это, сколько могу я видеть, для того чтобы персть земная смиряла нас, если б мы вздумали превозноситься образом Божиим» (свт. Григорий Богослов. Слово 14, 7).
Считать себя по своему «природному составу» наполовину (или высшей «частью» души) «весьма и весьма великими, небесными и бессмертными», это, по каппадокийской шкале добродетелей и пороков, еще не значит превозноситься… Считать человека «наследником света» по самому естеству души – это истинная православная вера... Поэтому Максиму пришлось в этом месте прибегнуть к «тонкой» редакторской правке и истолковать слова «проистекание свыше» как указание на грехопадение (а не как происхождение души Адама из «дыхания Бога», что имел в виду великий Григорий; поэтому сразу после «проистекания свыше» речь у него идет о «нашем небесном достоинстве», что было бы неуместным, если бы «проистекание» означало грехопадение). Иными словами, преп. Максим не мог ни заметить, что в этом описании Назианзином устроения эмпирического человека отсутствует упоминание о грехопадении прародителей. Но поскольку сказать от этом прямо он, видимо, посчитал неуместной критикой «богоносного отца», он попытался «эпизод» с грехопадением незаметно добавить в своем толковании, полагая что этого будет достаточно для полноты картины. Однако проблема была в том, что лакуна на месте грехопадения у св. Григория была не только в одном этом месте, но это было доктринальным ущербом самой его антропологии, эллинистической по своей генеалогии. Т.е. это была лакуна в самом богословском сознании великого каппадокийца, а не в одной его неудачной фразе. Поэтому от этой, казалось бы, православной ремарки Максима догматическое значение первородного греха и Искупления, профанированное в традиции эллинистического гуманизма, не становится подлинно христианским, соответствующим Евангелию и Апостолу. Все последующие рассуждения Максима исходят из того же каппадокийско-александрийского «сознания нашего достоинства» быть с Богом (по причине естественного «сродства» души с Ним), т.е. ложны на концептуальном богословском уровне.
«Некоторые, натыкаясь на эти слова <…> прибегают к легкому и уже имеющему много для себя предлогов в эллинских учениях [выходу]» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. II / Здесь и далее цит. по изд.: Прп. Максим Исповедник. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы). Пер. с греч. и примеч. архим. Нектария. М., Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. – 464 с.).
Т.е. некоторые православные христиане, не мудрствуя лукаво, трактовали их просто как пережиток оригенического учения об «охлаждении умов». И, как выясняются, только эти бесхитростные Израильтяне были правы, потому что самое простое объяснение в данном случае и было самым верным. Максим же, не ища легких путей и пытаясь дифференцировать «крайности» и якобы приемлемые «умеренности» оригенических идей, неизбежным образом перетаскивает последние в собственное богословие. Поэтому его антропология и сотериология тоже оказываются по духу наполовину неоплатоническими, оперирующими в корне нехристианскими категориями и идеями.
«…пришедшему в бытие от Бога свойственно собираться к нему постоянно и непреложно» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. II).
По сути, это типичный неоплатонизм. В Священном Писании сказанное является верным только в отношении первозданной человеческой природы, которая (sic!) безвозвратно потеряна, погребенная первородным грехом. Отныне пришедшему в бытие от греха Адама каждому его потомку свойственно удаляться от Бога, постоянно и неотвратимо греша по закону существования падшей природы. Ибо так написано у св. ап. Павла во всех его Посланиях Церквям. Продолжать после этого говорить о том, что человеческой природе «свойственно собираться к Богу постоянно и непреложно», означает отрицать догмат первородного греха и ни во что не ставить Священное Писание. Именно этим и занимается преп. Максим вслед за великим Григорием и анафемой Оригеном. И по-другому, повторим, не могло быть ввиду самой выбранной Максимом лукавой стратегии «православного» истолкования подобных «трудностей» каппадокийского оригенизма, что заведомо было обречено на неудачу.
«Ибо все, что приведено в бытие претерпевает движение, не будучи самодвижением или самосилой. Итак, если умы сотворены, то всяко и движутся, как по естеству движимые от начала по причине сотворения, к концу же – по произволению ради благобытия. Ибо концом движения движимого является само благобытие в вечности, как и началом – бытие, каковое есть Бог, Который и бытия Податель и благобытия Дарователь, как Начало и Конец; ибо и просто двигаться нам – от Него, как от начала, и как-то [т.е., некоторым образом] двигаться – к Нему, как к концу» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. II).
Здесь хорошо видно, что в сотериологических построениях уже самого Максима отсутствует фактор первородного греха и произошедших от него тектонических изменений в «движениях» человеческой природы и присущего ей «произволения». Как было все сотворено с природным ускорением в сторону Благого Создателя, так все и продолжает к Нему двигаться «ныне и присно и вовеки веков». Что является вольным пересказом учений Филона и Пантена, Оригена и Плотина, а не Павла и Петра, Иоанна и Луки. Вернее – от последних, т.е. от св. Апостолов, у Максима понятие о Боге как о едином «Дарователе благобытия», т.е. благодати спасения как обожения; а от первых (неоплатоников и иже с ними ересиархов) понятие «движения по произволению ради благобытия», т.е. эллинистическая теория «самоспасения» человека как персонифицированной Природы. И никакой евагрианской «синергией» эти противоположности, на самом деле, «диалектически соединить» невозможно. Либо Бог – единственный Дарователь спасения грешнику по Своей велицей милости (как это обстоит в Священном Писании), либо – это происходит «по причине произволения о благобытии» самих «умов» как по их персональной «заслуге», или «достоинству» Бога (как это обстоит у анафемы Оригена и анафемы Евагрия).
В словах о «произволении» как одной из причин «движения умов к благобытию», т.е. Царствию Небесному, Максимом излагается принципиально нехристианское учение о воле как производительной силе спасения, что является отличительной чертой всех ересей неоплатонического типа, оригенизма и пелагианства, в частности. Суть их заключалась как раз в том, что воля как «практический разум», т.е. как природная сила все той же «божественно-премудрой части» души, и после грехопадения сохраняет в себе достаточный потенциал для того, чтобы «двигаться навстречу Богу» и, тем самым, становиться «достойным» спасения. И, вне всякого сомнения, именно это лжеучение излагает здесь Максим, поскольку нашел его у великого каппадокийца Григория и доверился его непререкаемому авторитету. Поэтому сам неоплатонический термин «ум» в отношении человеческих душ сохраняется у Максима и Григория. Ведь даже полугностик Ориген полагал, что библейский термин «душа» является обозначением той мистической инволюции, которую претерпевают первоначальные «умы» после своего «грехопадения» из божественной «генады», т.е. предвечного единства и тождества всех «умов» как «частиц Бога». Т.е. «душа» в псевдохристианском неоплатонизме Оригена – это более низкое слово, чем «ум», которым обозначается определенная степень деградации последнего как состояние гностического (богословски профанированного) «грехопадения». И то, что Григорий и Максим продолжают именовать человеческие души «умами», как раз и является выражением того, что «достоинство» их как «частиц Мирового Логоса» не может быть ими потеряно и после «пресловутого первородного греха».
«…прекрасно созерцание, прекрасна и деятельность: первое потому, что возносится превыше земного, входит во Святая Святых и возводит ум наш к тому, что сродно с ним; другая потому, что, приемля к себе Христа и служа Ему, доказывает любовь свою делами» (свт. Григорий Богослов. Слово 14, 4).
По своему «логосу», все души до единой всегда остаются «умами», а значит, и так называемый «первородный грех» не так страшен, как его малюют «радикальные антиоригенисты» вроде... святых апостолов Иоанна и Павла. Потому что они характеризуют природу человеческой души после грехопадения в категориях «безумия» как скрытого демонизма, а не «ума» как потенциальной божественности. А тут, в каппадокийском оригенизме, наоборот: как были все сотворены «умами» в соответствии с «логосом», таковыми остаются и в ветхом состоянии человеческой природы и поэтому сохраняют способность «по произволению» избирать Бога в качестве своей «достойной» жизненной цели как «сродное» себе... В таком случае это и есть то, что Апостолы называют «лжеименным знанием» (1Тим 6:20), «земной, бесовской мудростью» (Иак 3:15), «безумием» (1Кор 1:20), «мерзостью пред Богом» (Лк 16:15).
«И ничего из пришедшего в бытие нет совершенно неподвижного по своему [природному] логосу, даже из самих бездушных и чувственных, как это явилось усерднейшим при внимательном рассмотрении существующего. Ибо они сказали, что все движется либо по прямой, либо по кругу, либо спиралевидно» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. II).
«Усерднейшими» здесь обозначаются языческие философы (в частности, далее цитируется Аристотель). И вот внимательнейшие наблюдения за существующим этих следопытов Максим, как и великие каппадокийцы, считает возможным перенести в богословскую антропологию и сотериологию. Так и получается, что все в этой мифической картине мира, включая «небесные сферы божественных умов», движется по геометрически правильным траекториям, а вовсе не «безумно» и «несмысленно», как это кажется «некоторым впавшим в крайность» антиоригенистам по причине недостаточности «усердия и внимательности при рассмотрении существующего».
«И об этом изрядно любомудрствует богоносный сей учитель: “Познаем некогда, насколько сами познаны, когда сие боговидное и божественное, то есть наш ум и наше слово, соединим со сродным [ему], и когда образ взойдет к Первообразу, к Которому теперь имеет стремление» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. II / свт. Григорий Богослов. Слово 28, 17 / PG, 36, 48С).
Что и означает, что «боговидность» (т.е. богоподобие души) в каппадокийском оригенизме не терпит никакого ущерба в результате первородного греха. Поэтому она обладает естественной способностью «восходить к Первообразу» как к своему «Сроднику», поскольку «имеет (природное) стремление» к Нему. И разве не очевидно, что это обыкновенный языческий идеализм александрийского толка, а никакое не Христианство и не Православие?
«А который, будучи частицей Бога ради находящегося в нем логоса добродетели и оставив по вышеуказанной причине свое начало, неразумно движется по направлению к небытию, справедливо называется истекшим свыше, как подвигшийся не к собственному началу и причине по которой, и ради которой, и в связи с которой он пришел в бытие, и находится в безостановочном кружении и страшном беспорядке по душе и телу, добровольным течением к худшему, причиняя себе неудачу в отношении этой непрелестной и неизменной причины» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. II).
Толкуя слова «проистекши свыше» как указание на грехопадение прародителей, Максим, как уже было сказано, напрямую искажал авторский смысл этого высказывания, потому что у Назианзина выражение «будучи частицей Бога и проистекши свыше» было единым по значению, подразумевая способ творения души первого человека «из» самого «дыхания Бога», что Максим откровенно корректирует, хотя и не сильно преуспевает в этом. Потому что его подавление «эпизода» грехопадения в каппадокийскую историю человеческого рода так и не делает ее адекватной апостольскому учению, потому что непрерывность «движения» сущих к Богу от момента их сотворения, как старта финального забега на Олимпийских играх, до достижения ими «финишной черты» от этого если и замедляется, то нисколько не меняет своего вектора.
Суть же, как мы уже отметили, заключалась в том, что в самом каппадокийском оригенизме догматическое значение первородного греха было не более чем «эпизодическим». Поэтому, когда Григорий, наконец, вспоминает о произошедшем грехопадении прародителей человеческого рода, то его «александрийская» трактовка этого события оказывается столь же богословски легкомысленной, как и пелагианская.
«Но Сотворивший человека вначале соделал его свободным, ограничив его только одним законом заповеди; соделал и богатым среди сладостей рая, а вместе с сим благоволил даровать сии преимущества и всему роду человеческому в одном первом семени. Тогда свобода и богатство заключались единственно в соблюдении заповеди» (свт. Григорий Богослов. Слово 14, 25).
Т.е. свобода воли нисколько не ограничивается грехопадением: как прародители могли соблюсти заповедь и могли нарушить ее, так и их семя после первородного греха обладает той же духовной свободой... Что диаметрально противоположно антропологии Апостола, «ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху» (Рим 7:14) и поэтому не могу его соблюсти, будучи «рабом греха» (Ин 8:34) по своему «ветхому человеку» (Рим 6:6).
«Но с того времени как появились зависть и раздоры, как началось коварное владычество змия, непрестанно и неприметно привлекающего нас к злу лакомой приманкой удовольствия и вооружающего дерзких людей против слабых, – с того времени расторглось родство между людьми, отчуждение их друг от друга выразилось в различных наименованиях званий, и любостяжание, призвав и закон на помощь своей власти, заставило позабыть о благородстве естества человеческого. Ты же смотри на первоначальное равенство прав, а не на последовавшее разделение, не на закон властителя, а на закон Создателя. Помоги, сколько можешь, природе, почти первобытную свободу, уважь самого себя» (свт. Григорий Богослов. Слово 14, 25).
Сами эти риторика и аргументы каппадокийского оригенизма практически идентичны пелагианскому лжеучению: первозданная природа и ее закон («логос») всегда под рукой каждого человека, ничто не мешает воспользоваться ими любому желающему точно так же, как и первому человеку. «Соблюди заповедь, исполни закон, почти достоинство своей природы. Ты можешь, потому что все могут». Именно за этот перпендикуляр Благой вести Апостолов Вселенская Церковь осудила пелагианство. И проблема в том, что сами рассуждения Григория о том, что
«мы вместе и весьма велики и весьма низки, земны и небесны, временны и бессмертны, наследники света и наследники огня или тьмы, смотря по тому, на какую сторону преклоним себя. Так устроен состав наш, и это, сколько могу я видеть, для того чтобы персть земная смиряла нас, если б мы вздумали превозноситься образом Божиим» (свт. Григорий Богослов. Слово 14, 7),
слишком напоминают то, о чем говорится в 7-м определении Карфагенского собора 418 г. против пелагианства: «Относительно слов святого апостола Иоанна: “Если мы скажем, что не имеем греха, то мы обманываем самих себя, и в нас нет истины”, — всякий, кто решит, будто их следует понимать в таком смысле, который позволяет говорить, что [только] по смирению нам не подобает называть себя не имеющими греха, — а не [в том смысле, согласно которому] всё поистине так и есть, [как сказал апостол], — таковой да будет анафема. Ведь апостол продолжает и добавляет: “Если же мы будем исповедовать наши грехи, то верен и праведен Тот, Кто отпустит нам грехи и очистит нас от всякого беззакония”. Поэтому вполне понятно, что эти слова выражают не только смирение, но и истину. В самом деле, апостол мог бы сказать: “Если мы скажем, что не имеем греха, то мы превозносим самих себя, и в нас нет смирения”, однако он говорит иначе: “Мы обманываем самих себя, и в нас нет истины”. Тем самым апостол ясно показывает, что человек, говорящий о себе как о том, кто не имеет греха, говорит не истину, а ложь» (Постановления Карфагенского собора 418 года. Перевод Д. Смирнова [Электронный ресурс] : https://virtusetgloria.org/translations/karfagenskij-sobor-418g/postanovleniya-karfagenskogo-sobora-418-goda). Если экстраполировать это в рассуждения Назианзина, то это и будет означать, что, говоря о «частично» сохраняющемся «небесном достоинстве» человека после первородного греха, «мы обманываем самих себя, и в нас нет истины».
Все святые добродетели, которые имели древние и новозаветные праведники (и которых подробно перечисляет Григорий Богослов в своем 14-м «Слове» с наиболее присущей каждому какой-то одной добродетелью), были праведны Христовой благодатью, а не «логосом» собственной природы. Вот где лежит богословский ключ к ортодоксальному решению всего этого вопроса. Никакого другого значения в догматическом богословии Православной Церкви, кроме благодати Христа как нового Адама, неоплатоническое понятие «логоса» иметь не может. И суть именно в том, что преп. Максим, введенный в заблуждении каппадокийским оригенизмом, толкует «логос», наоборот, как «находящийся в» самой тварной природе, т.е. точно так же, как понимал «благодать» Пелагий: как природные силы, или добродетели, «умной души». Поэтому и после грехопадения как «проистекания свыше», по Максиму, этот «логос добродетели» потенциально остается присущим «умной части души», и она «по произволению» может «включить» его и снова начать двигаться к Богу как к своей Первопричине и Первообразу. В то время как в апостольском Христианстве сверхъестественная благодать («логос» Максима) теряется для падшего человека в первородном грехе полностью и безвозвратно. Благодать снова даруется только новому человечеству Церкви ради Искупительной Жертвы Христа. Именно так ее получали и все древние и ветхозаветные праведники – исключительно «ради Христа» как обетованного им Спасителя. В кападдокийском же оригенизме, как и в пелагианстве, все эти праведники, наоборот, традиционно служат доказательством «естественной благодати», или внутренне присущего «логоса добродетели», которым «достойные» заслуживают Бога как нечто «сродное» себе как «сполохам» Его огненного «дыхания».
Отсюда хроническое в «православном оригенизме» смешение атрибутов первозданной, ветхой и новой человеческой природы, или отсутствие необходимого их различия, которое есть в учении Апостолов. Неоплатоническому понятию «логоса добродетели», которое Максим «воцерковляет» уже из богословского наследия Псевдо-Дионисия Ареопагита, в апостольском учении соответствует понятие «даров Духа» (1Кор 12:4), т.е. все той же божественной благодати, которую во Христе имеют только члены Церкви как Его Тела (1Кор 10:17; 12-12). «Огненные языки» благодати Святого Духа, сошедшие на Апостолов в Пятидесятницу (Деян 2:3), в «православном» неоплатонизме оказываются принадлежащими самой «умной» природе дыши (в которую в акте творения пресуществилось или божественное «дыхание», или божественный «логос»).
Т.е. весь этот фрагмент Максима («будучи частицей Бога ради находящегося в нем логоса добродетели и оставив по вышеуказанной причине свое начало, неразумно движется по направлению к небытию, справедливо называется истекшим свыше») может иметь только один смысл, приемлемый в апостольском Христианстве, а именно, если под «истекшими свыше» понимать согрешивших смертными грехами и, тем самым, отпавших от Церкви как Тела Христа-Бога христиан и в этом смысле переставшими быть Его «частицами». Но очевидно, что Григорий говорит о происхождении всех и каждой души в отдельности, т.е. о их сотворении по природе, а не их сакраментальном рождении по благодати в Церкви. Поэтому никогда другого смысла вся эта креационистическая басня иметь не может, кроме как эллинистического и лжехристианского. В апостольском Христианстве душа ветхого человека никогда не была «частицей Бога» (ни по «происхождению из дыхания Бога», ни по «логосу добродетели»), происходя от падших душ прародителей и поэтому будучи онтологически лишена божественной благодати (или отчуждена от своего «логоса» – в неоплатонических терминах лже-Дионисия). Только во Христе индивидуальная душа впервые в истории человеческого рода может стать такой «частицей Бога», «родившись» от Святого Духа в Таинстве крещения (Ин 3:5-7). Так сказано в Евангелии Самим Христом. Поэтому даже о душе падшего Адама нельзя сказать, что он сотворен «частицей Бога» в том смысле, что он обладал благодатью обожения, так же как ею обладают святые во Христе. Потому что только после Боговоплощения это стало возможно, т.е. только во Христе как новом Адаме. Поэтому то, что здесь Максим пытается выдать за православное учение, было у Григория и Ареопагита еще типичной неоплатонической теорией «естественного теозиса» души. По этой причине и Максиму приходится переводить повествование в подчеркнуто онтологические (в категории «бытия»), а не в исключительно сакраментальные понятия (в категории церковных Таинств как творения Богом «новой твари» от нового Адама), как это обстоит в учении Апостола. «Собственным началом» каждого человека в апостольском Христианстве является первородный грех первого Адама. От него он «движется в небытие». И вся велико-каппадокийская антропология и сотериология построена на вопиющем на небеса искажении этой божественной истины о человеке и его спасении, вслед за Оригеном измышляя какую-то природную «боговидность» или «сродность» каждой индивидуальной души Богу (как частного «ума» – «Первому Уму»).
«И, возможно, это и есть то подчинение, о котором говорит божественный апостол, что Сын покоряет Отцу тех, кто добровольно соглашается покориться, после чего, или по причине чего “последний враг испразднится смерть” (1Кор.15:26), [покориться] насколько это от нас зависит, то есть добровольно всецело уступив Богу самовластие (посредством коего соделав вход к нам, [смерть] утвердила на нас владычество тления) и управление тем, что полностью управляет [нами]...» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. II).
Но если в результате первородного греха как добровольного выбора первого человека «смерть утвердила на нас владычество и полностью управляет нами», то это и означает, что обратный выбор, т.е. самоопределение к Богу, а не ко греху, человек уже не может сделать добровольно, ибо на то оно и «владычество смерти», чтобы владеть падшим человеком безраздельно. Поэтому слов «тех, кто добровольно соглашается покориться Отцу» у Апостола нет и не может быть в принципе. Либо Сын покорит, либо человек сам покорится. И поскольку сам ветхий человек не может покорится, постольку Сын покоряет его Отцу. Поэтому противоположное утверждение у Максима – это волюнтаризм оригенизма, т.е. ложное эллинистическое учение о воле, которое он наследует от каппадокийцев. Апостол же прямо и многократно говорит, что Бог покорит человека Свою владычеству непреодолимом действием благодати, потому что только так можно освободить падшего человека от владычества греха над ним. «Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь» (Евр 13:20-21). Ветхий человек, будучи «рабом греха» (Ин 8:34) по своей природе, не может «добровольно покоряться» ничему, кроме греха. Поэтому именно Сын Своею благодатью должен покорить его «полному управлению» Отца, т.е. даровать ему во Христе новую природу, благодать которой будет покорять человека Отцу, «потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению» (Фил 2:13). В то время как оригенический волюнтаризм не различает природной воли ветхого и нового человека, поэтому и Максим полагает, что «гномической» волей ветхого человека можно выбирать Бога точно так же, как и грех. По Апостолу же, ветхий человек, «закону Божию не покоряется, да и не может» (Рим 8:7), будучи «плотским» (1Кор 3:3) по самой своей природе. Оригенисты, как и пелагиане, толковали Рим 8:7 как характеризующий род, а не природу помышлений (наподобие того, как Достоевский, другой типичный оригенист и пелагианец, думал, что можно иметь «идеал Содома и идеал Мадонны» одновременно, попеременно «включая» в себе то греховные страсти, то «высокие» идеи). Дескать, когда любой человек имеет «плотские помышления», он, тем самым, не покоряется Богу, ибо мыслит о плотском. А когда он же имеет «духовные помышления», то ими он как богоугодными покоряется Богу… Но Апостол был бы Капитаном Очевидностью, а не устами Христа, если бы говорил такие тривиальности. Поэтому следующие у него за «не покоряются» слова «да и не могут», как всегда, указывают на непреодолимый «греховный закон» (Рим 7:23) природы «плотских помышлений», делающий ветхого человека их безысходным пленником, самостоятельно выйти за границы которых он не может ни при каких обстоятельствах, поэтому не может и «покориться Богу», но нуждается в том, чтобы Тот Сам покорил его Себе сверхъестественным действием благодати на свою порабощенную грехом волю.
«...дабы откуда имеем мы бытие, оттуда же желали бы получать и движение, подобно образу, восшедшему к своему первообразу (τό αρχέτυπον), и отпечатку печати, обыкновенно точно соответствующему оригиналу и не имеющему куда еще иным образом двигаться, да и не могущему. Точнее же и правильнее будет сказать: даже и пожелать не могущему, как восприявшему божественное действие» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. II).
Опять же, это верно (соответствует учению Апостолов) только в отношении новой природы во Христе, а не ветхой – в первом Адаме, как заблуждается Максим вслед за каппадокийцами как умеренными оригенистами. Потому что природная воля падшего человека, согласно Апостолу, работает аналогично: «имея бытие» от первородного греха, от него же она получает и природное движение в противоположную сторону от Бога и поэтому «даже и пожелать не может» ничего, кроме греха. «Александрийская» же концепция первородного греха, как было сказано, не предполагает такого тотального детерминирования им воли, рассматривая ее как движущую силу спасения как «сродную» благодати. Поэтому и в каппадокийском оригенизме Максима «умы движутся к концу [ибо только Богу принадлежит быть концом движения] – по произволению ради благобытия». Хотя одновременно Максим и говорит, что «все, что приведено в бытие претерпевает движение, не будучи самодвижением или самосилой», т.е. исповедует уже апостольский детерминизм природного действия и воления. Тогда как сотериологическим принципом оригенизма является противоположная концепция «самовластия», т.е. неотчуждаемой никаким грехом «свободы воли» как именно «самодвижения и самосилы».
«Итак, никоим образом ничто еще из сотворенного не остановило своей природной силы, движимой к соответствующему ей концу, не прекратило же и действия направленного к свойственному ему концу» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. II).
Снова Максим отождествляет сотворенную природу, падшую в Адаме, и новую природу во Христе как втором Адаме, которая одна только силою Его благодати движется к Богу как своему естественному «концу». Потому что для «сотворенной природы», падшей в Адаме, таким естественным концом является «вторая смерть» (Откр 20:14). И поскольку «эпизод» первородного греха прошел незамеченным для наполовину еще языческого сознания Оригена, постольку и в каппадокийском оригенизме он оказывается в богословски ущербном состоянии, и ветхая природа здесь, как ни в чем не бывало, продолжает природное движение к Царству Небесному и обожению, имея естественное произволение о нем. Что находится в непримиримом противоречии с Евангелием, делая Христа, по сути, не нужным. Отсюда неоплатоническое понятие «логосов» как имманентных душам «христов», или «умов».
«…я знаю, для чего приведен я в бытие, знаю, что мне должно восходить к Богу посредством дел» (свт. Горигорий Богослов. Слово 14, 6).
Между «приведением в бытие» и «восхождением к Богу» в учении Апостолов как раз и находится грех первого «приведенного в бытие» человека, становящийся непреодолимой преградой для него и всего его потомства для «восхождения к Богу». Поэтому и спасаются у Апостолов Христа не «от дел» ветхого или природного закона, но верою по благодати и делами по благодати, т.е. получая и веру, и дела в одном только новом Адаме по благоволению Его Небесного Отца. У Григория же «восходить к Богу», что называется, «естественно для человека», т.е. для ветхого человека, что делает каппадокийское учение о спасении весьма далеким от апостольского. «Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал 2:21). «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас – Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф 2:8-9). В то время как в каппадокийском оригенизме отчетливо просматривается гуманистический тренд именно на хваление человеческими добродетелями, делающими таких деятелей «достойными» спасения.
«Каждая из сих добродетелей есть особенный путь ко спасению и, несомненно, приводит к одной какой-либо из вечных и блаженных обителей. Ибо как различны роды жизни, так и обителей у Бога много (Ин. 14:2), и они разделяются и назначаются каждому по его достоинству» (свт. Григорий Богослов. Слово 14, 5).
У Апостолов ровно наоборот: «все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор 12:11). Потому что в вере Апостолов существует только один путь ко спасению – это Божия благодать, подаваемая «Христа ради» новой человеческой природе Церкви как Тела Христова, а не «присущая» каждому «приведенному в бытие» как «логос добродетели».
«Нет, братия! Не тому учит нас, овец Своих, добрый Пастырь (Ин. 10:11) Христос, Который обращает заблуждшее, взыскует погибшее и укрепляет немощное (Иез. 34:16); не то внушает и природа человеческая, которая вложила в нас закон сострадания и чувством немощи, общей нам со всеми, научается благочестию и человеколюбию» (свт. Григорий Богослов. Слово 14, 15).
Христос и внутренний закон («логос») человеческой природы в каппадокийском оригенизме учат одному и тому же. Поэтому и высшие христианские добродетели здесь возможны из самой человеческой природы. Потому что в каждом человеке есть своей персональный «логос», т.е. «христос»… За это Вселенская Церковь на основании ясного учения Апостолов и анафематствовала оригенизм и пелагианство как страшнейшие из ересей, ибо они делали Христа, по сути, не нужным для спасения.
Таким образом, патристическое понятие «логоса» в догматическом богословии должно быть отождествлено с понятием «благодати», т.е. четко отделено от ложной неоплатонической теории «естественного теозиса», сохраняющейся в каппадокийском оригенизме в виде таких неприемлемых категорий как «достоинство», «сродность», «подобие» души Богу (тем более – «часть»). Все сущие имеют и причастны «логоса бытия», т.е. сотворены и сохраняются свое существование действием всеобщей благодати, не имея жизни в самих себе. Это касается и тела, и души. Душа, будучи тварью, не может обладать бессмертием по природе, поэтому существует вечно (как и тела после всеобщего воскресения) исключительно действием сверхъестественной благодати. Соответственно, неоплатоническим термином «логос приснобытия» в апостольском Христианстве может обозначаться только благодать обожения, т.е. такое действие Бога, которое делает сущих «сынами Божьими», т.е. причастными Его (сверхъестественных для них) добродетелей, силы и блаженства. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим 8:14). «То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя» (Рим 9:8). Это означает, что «логос приснобытия» в отличие от «логоса бытия» имеют не все сущие, но только «избранные», или «предопределенные». «…так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф 1:4-7). Поэтому в точности соответствующим учению Апостола является толкование блж. Августина о том, что благодать Христа («благодать обожения», или «логос приснобытия» – в терминах Максима) имеют не все, но только предопределенные ко спасению; а не неоплатоническое учение Псевдо-Дионисия Ареопагита о всеобщем характере «логосов приснобытия», которое Максим «воцерковляет» наряду с каппадокийским оригенизмом. «…они избраны прежде создания мира посредством того предопределения» [«логоса» – в терминах Ареопагита], «в котором Бог заранее знает Свои будущие дела, а избраны они от мира посредством того призывания, при помощи которого Бог исполнил то, что предопределил. <…> Итак, Бог избирает верующих, но избирает Он их, чтобы они были верующими, а не поскольку они уже верующие. <…> по Своему избранию творит Он как богатых верою, так и наследников Царства» (блж. Августин. О предопределении святых. Гл.XVII, 34 / Блаженный Августин. Антипелагианские сочинения позднего периода. М., «АСТ-ТРАСТ», 2008. С.364-365). Благодать обожения как «логос приснобытия» воистину является «предопределением ко спасению», потому что обозначает как раз непреодолимое действие на избранных Бога. «…Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова: “еще раз” означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое» (Евр 12:26-27).
Александр Буздалов
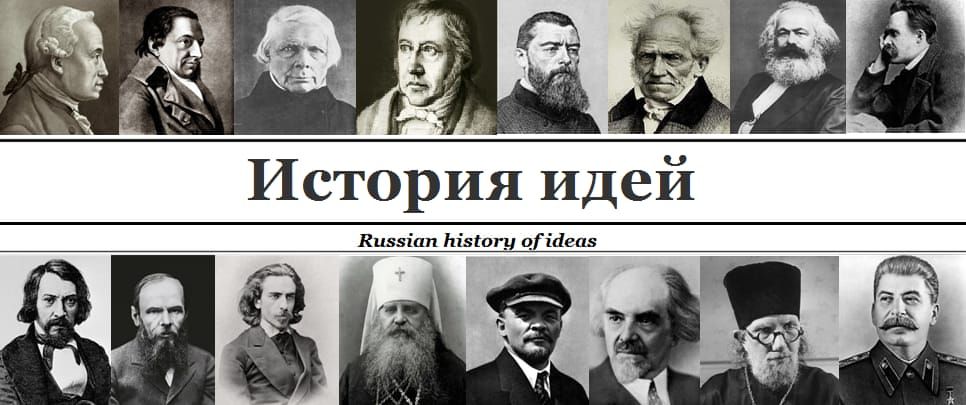





Комментарии
У этой статьи нет комментариев