«Апостолы» Плотина
Дата создания:
Рельеф саркофага «Плотин с учениками» (270 г.), Григорианский музей светского искусства в Риме
Евангельское выражение «весь мир лежит во зле» (1Ин 5:19) следует рассматривать как яркий пример того, что в восточной богословской традиции, склонной к диалектическим и синкретическим концепциям («синергии», «царского пути» и т.п.), называется «крайностью».
«С того времени, когда первозданный человек был изгнан из рая и утратил непосредственное, внутреннее ведение Бога и сотворенных Им существ, включая самого себя, его стали волновать вопросы: кто я? зачем существую, с какой целью? что ждет меня впереди? Разнообразные ответы на эти вопросы <…> породили целый спектр антропологических теорий, колеблющихся между двумя крайними <…> С одной стороны – идеи человекобожия, обожествляющие человека, с другой – системы, “расчеловечивающие” человека, полностью отрицающие ценность его личности» (От издательства / прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии (учебник). 2-е изд. М., Изд-во Московской патриархии Русской православной церкви, 2016. С.3).
А «истина», стало быть, «где-то посередине»... Между тем за апостольскими словами «весь мир во зле» стоит как раз «крайняя антропологическая теория», а значит, для традиционного православного сознания это слишком фундаменталистское суждение, радикальное и чересчур нигилистическое в отношении «мира сего». Поэтому не только «политкорректные» богословы современной РПЦ, но, как выясняется, и святые отцы не очень-то жалуют этот евангельский стих, а если и вспоминают о нем, то стараются так или иначе смягчить его «крайность» своими «миролюбивыми» толкованиями, в которых дают более «сбалансированную» оценку «человеческой личности» и актуальной среды ее обитания. Потому что для исторического православия, как ни крути, гораздо ближе антропологические афоризмы типа:
«Ни на небе, ни на земле я не встречал ничего прекраснее души человеческой» (приписывается преп. Макарию Египетскому, хотя это, скорее всего, Евагрий Понтийский или какой-нибудь другой представитель александрийского оригенизма, ибо подлоги авторства здесь, увы, довольно распространенная практика).
Как говорится, почувствуйте разницу установок. Если для Апостола «весь мир лежит во зле», то для патристической традиции «православного оригенизма», исторически сложившейся как синтез Священного Писания с философией неоплатонизма, «мир лежит во зле» только отчасти, другая же (лучшая) его составляющая продолжает пребывать «сродной» Богу, т.е. сохраняет причастность Божественному Логосу как своему Первообразу, или Первому Уму. Обусловлена такая существенная разница как раз умеренно-оригенической концепцией первородного греха как обратимого «повреждения природы», которая складывается на православном Востоке под влиянием неоплатонической философии.
«Ибо о всем тварном всячески катафатически утверждается, что оно по сущности и происхождению охватываемо собственными логосами и <…> многие логосы являются Одним Логосом, а Один – многими: по благолепному творческому и содержительному [т.е. удерживающему в бытии] исхождению Один – многими; а по возведению и промыслу, возвращающему и направляющему к Вседержительному Началу или Центру, содержащему в себе начала всех [исходящих] из него прямых и всех их собирающему [во едино], многие – Одним <…> Также и принадлежащие к кругу Пантена [т.е., ученики его], бывшего учителем великого Климента Строматевса [Александрийского], говорят…» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. II / Прп. Максим Исповедник. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы). Пер. с греч. и примеч. архим. Нектария. М., Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. С.68-71).
Злом в платонизме является плоть мира, и в этом «зле» бренной плоти томится, как в заточении, душа, прекрасная, умная и добрая по своей природе.
«Телесная природа настолько зла, насколько она причастна материи» (Плотин. Эннеады. 1.8.4 / Плотин. Эннеады. Киев, «УЦИММ-ПРЕСС», 1995. Т.1. С.28).
В то время как апостольская формула «весь мир лежит во зле» предполагает, что злом является в том числе и всякая душа мира сего, потому что «весь мир» включает и его духовную составляющую, в частности, «духов» и «князей мира сего», «действующих ныне в сынах противления» (Еф 2:2), «порождениях ехидниных» (Мф 23:33).
Более того, если «миром» обозначается совокупность греховных страстей («ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1Ин 2:16)), то это значит, что в первую очередь именно душа (а вовсе не плоть) ветхого мира является источником зла. «Ибо плоть не желает без души, сколько бы не говорили о том, что желает плоть, ибо через плоть желает душа» (блж. Августин. Об усовершении человеческой справедливости. 8.19 / Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Тверь, «Герменевтика», 2010. С.459). А значит, согласно «антропологической теории» Апостола, во зле лежит, прежде всего, душа ветхого человечества, падшая в прародителях. Поэтому и сказано: «ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин 8:44); и «кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил» (1Ин 3:8). И если «нет человека, который не грешил бы» (3Цар 8:46), то это и означает, что все от дьявола, и поэтому «весь мир лежит во зле». Отсюда – экзорцизмы Таинства крещения, установленные в Апостольской Церкви. Что принципиальным образом отличает евангельское отношение к душе мира от неоплатонического оптимизма, всегда мыслящего Благого Демиурга как Первопричину всех сущих, в той или иной степени «родственных» ему, или как «Отца» – в терминах Апостола. Поэтому и в христианско-неоплатонической теории креационизма (творения Богом всех индивидуальных душ в первозданном состоянии) носителем первородного греха оказывается только тело, передающееся от родителей. Отсюда и только частичная причастность «человеческой личности» «зла мира», а именно, в меру своего добровольного заражения грехом от плоти.
«И мир лежит во зле, не творение, но мирские люди и живущие сообразно похотям. Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, конечно, по вере нашей приходящий в нас, который также и Духом Святым называется» (Климент Александрийский. Очерки на соборные послания. III. На первое послание Иоанна. V,19-20 / Сагарда А.И. «Ипотипосы» Климента Александрийского. Христианское чтение. 1913. № 9. С.1127).
Т.е. Логос, придя в мир, нашел лучшую («достойную») часть «личностей» мира уже верующими в Него как в Первый Ум и живущими насупротив похотям и за это дал им Духа Истины, тем самым, лишь преумножив то «умное» и «разумное», чтобы было в них… Уже по этому делению ветхого человечества на неразумных грешников и «достойных Бога» благоразумных праведников («духовно-развитых личностей») можно судить, насколько значительно данная богословская традиция отходит от учения Апостолов в самых базовых принципах и установках, т.е. на догматическом уровне.
«Вот здесь и начинается падение души: она спускается в материю и ослабевает, поскольку многие из ее сил и способностей завязают в ней, как в тине, и теряют способность действовать; и вот материя уже занимает место, принадлежавшее душе, и заставляет душу как бы сжиматься, а то, что она украла у души, она делает злым; и так до тех пор, пока душа не найдет в себе силы восстановить свои права» (Плотин. Эннеады. 1.8.14. Цит. изд. С.39).
Совершенно иная картина мира в Евангелии. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин 3:6). Плотью Христос называет всего ветхого человека, поэтому и его душа, чтобы стать «духовной», должна «родиться от Духа» в Таинстве крещения. Поэтому у Апостола причинно-следственная связь между верой и причастием Духа Истины обратная александрийской доктрине: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден» (1Ин 5:1). Т.е. потому верующий верует, что получил благодать веры от Духа и стал из плотского духовным; а не, наоборот, он получил Духа, потому что сам по себе был верующим благодаря своей «умной части души» с присущими ей «логосами добродетели». Как это обстоит в православном креационизме, где «умная душа» происходит от «дыхания» Бога и поэтому имеет Его «образ и подобие», нуждаясь только в очищении от той скверны, которую она приобретает от греховной плоти.
«…в силу своей богообразности душа имеет божественные свойства. У свт. Григория Богослова есть несколько возвышенных фраз о душе, в которых душа соотносится с Богом, например: “Душа есть Божие дыхание, и, будучи небесной, она терпит смешение с перстным”» (прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии (учебник). Цит. изд. С. 49 / свт. Григорий Богослов. О душе / Творения: В 2 т. М., 2007. Т.2. С. 25).
Но если индивидуальная душа априори «имеет божественные свойства», то это и есть пример «идеи, обожествляющей человека», или «человекобожия». Соответственно, опирающееся на данную святоотеческую традицию модернистское «богословие (человеческой) личности» уже буквально сводится к «человекобожию», а именно к «богословию Человека», «науке о божестве Человеческой Личности». По этой же причине и каппадокийская антропология объективно оказывается далекой от апостольского свидетельства о человеке. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1Ин 11-23). А в каппадокийском оригенизме душа бессмертна по собственной богоподобной природе, потому что сама является малым «логосом» и имеет неотчуждаемую никаким грехом «умную часть» как божественное «достоинство», или непреходящую «личностную ценность» (в современных терминах).
«Большинство святых отцов учат, что каждая человеческая душа творится Богом. Свт. Григорий Богослов: “Душа есть божественная некая струя и приходит к нам свыше. Душа происходит от Бога» (прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии. Цит. изд. С.67 / свт. Григорий Богослов. О смиренномудрии, целомудрии и воздержании / Творения. Т.5. ТСЛ, 1994. С.178).
Между тем в апостольском Христианстве граница между «миром» и «духом» проходит между самой природой первого и второго Адама. Поэтому все «личности» («весь мир») в ветхом Адаме, согласно Апостолам, являются «плотскими» (1Кор 3:3), «мирскими», «злыми» (Мф 7:11) и грешными по своей природе; а все, «которые Христовы» (Гал 5:24), – «духовными», «верующими» и праведными. Что и означает апостольская оппозиция: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1Ин 5:19), ибо мир сей не от Бога, но от падшего Адама и его духовного «отца – диавола» (Ин 8:44). Так и у Самого Христа: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин 15:19). Тогда как в александрийском «христианстве» граница между «миром» и «духом» проходит через самоопределение сущих, вольных самовластно избирать к какой-то природе принадлежать.
«...под миром [Апостол] разумеет тех, которые не поставили себя в отношении к Богу в положение сынов чрез правые дела» (блж. Феофилакт Болгарский. Толкование на 1-е Послание св. ап. Иоанна).
Т.е. у блж. Феофилакта (как всегда, прилежно повторяющего за «консенсусом» святоотеческого оригенизма) ровным счетом то же самое, что у александрийского полугностика Климента: любой человек властен сам поставить себя в положение «сына Божия» («логоса» второго плана) «через правые дела». Что перпендикулярно всему Новому Завету и вообще Священному Писанию. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1Ин 5:18). Т.е. ровно наоборот: потому что природа нового человека во Христе (2Кор 5:17) стала причастна божественной благодати, он совершает «правые дела» («не грешит»), и «и лукавый не прикасается к нему»», потому что к нему «прикасается» Сам Бог как к члену Тела Христова. Как «плотские помышления» и греховные действия всех потомков ветхого Адама – это воления и действия падшей человеческой природы, никак иначе по могущей существовать и проявлять свою жизнедеятельность; так и духовные помышления и дела веры всех «новых тварей во Христе» (2Кор 5:17) – это воления и действия Его благодатной природы как нового Адама. Поэтому «без Меня [не пребывая во Мне] не можете делать ничего» (Ин 15:5). Поэтому «избранные в Нем» (Еф 1:4) не могут не «хранить себя от зла мира», потому что Сам Бог «производит» в них «и хотение, и действие» (Фил 2:13). А в александрийском «христианстве» сначала ветхий человек должен собственными усилиями совершить что-то подобающее звания «сына Божия», «веровать» и «не грешить», в частности (ибо его «богоподобная» душа по своему естеству располагает такими «сродными» Логосу добродетелями), и за это Бог уже «усыновляет» такую человеческую Личность как «достойную».
«И когда народ освободился от этой страсти, то прошел через место жительства иноплеменников, где закон вел его по “царской дороге”, не позволяя уклониться ни на шаг (Числ 20:17). Ведь для путешественника действительно крайне опасно отклоняться в сторону. <…> Так и закон хочет, чтобы идущий вслед за ним не оставлял путь, как говорит Господь, тесный и узкий (Мф 7:14), ни налево, ни направо (Втор 28:14). Эти слова служат нам уроком, показывая, что добродетели находятся посередине. Ведь все зло случается или по недостатку, или по избытку добродетели. <…> Ведь один безудержно предается наслаждениям, а другой гнушается браком как прелюбодеянием. И лишь обладание в равной степени и тем, и другим есть воздержанность. “Весь мир лежит во зле” (1Ин.5:19), как говорит Апостол, и то, что противоположно добродетели, что является злом, чуждо последователям закона. Поэтому тот, кто совершает в этом мире свой жизненный путь, безопасно окончит это необходимое путешествие добродетели, если сможет не сбиться с этого поистине великого пути, исхоженного и убеленного добродетелью, нигде не сворачивая ради порока на бездорожье – ни вправо, ни влево» (свт. Григорий Нисский. О жизни Моисея законодателя, или о совершенстве в добродетели. Ч.II, 287-290 / свт. Григорий Нисский. свт. Григорий Нисский. О жизни Моисея законодателя, или о совершенстве в добродетели. Изд. 2-е. – М., изд. «Храм свв. Космы и Дамиана на Маросейке», 2009. С.96).
В рассуждениях другого великого каппадокийца хорошо видно, как нравственная теория Аристотеля о добродетели как «середине» между недостатком и избытком одной и той же силы души подменяет евангельское учение о спасении как «узком пути». Потому что добродетели язычников, по определению Августина, это «скорее [блестящие] пороки, чем добродетели» (О Граде Божием. XIX, 25 / блж. Августин. Творения. СПб, «Алетейя»; Киев, «УЦИММ-пресс», 1998. Т.4. С.366). Т.е. умеренность как принцип добродетели у Аристотеля – это для апостольского Христианства не более чем умеренность во грехе, или сдержанность во зле, т.е. мнимая добродетель. Поэтому и стих 1Ин 5:19 истолковывается свт. Григорием превратно, а именно, как якобы возможность ветхого человека преодолевать зло мира и приходить ко спасению либо исполнением закона Моисея, либо «царским путем» естественных добродетелей эллинизма, хотя и то, и другое прямо отвергается Апостолом. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Рим 3:19-20); «не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал 2:21).
Пребывание, согласно Евангелию, всего мира, т.е. всего ветхого человечества, во зле вступает в непримиримое противоречие с коренящемся в том же неоплатонизме святоотеческим учением об отсутствии у зла сущности, с его онтологически случайным характером.
«Несущественность зла удивительным образом сочетается с его разрушительной активностью, реализующейся в тварном мире. Этот парадокс в православном богословии разрешается через вскрытие источника зла – зло коренится не в сущностях, но в личностях. “Нет ничего злого по естеству, – говорит прп. Иоанн Дамаскин, – ибо вся, елика сотвори Бог, – добра зело (Быт. 1:31); и все, что остается в таком состоянии, в каком сотворено, – добра зело; а то, что своевольно отступает от естественного и сворачивает в противоестественное находится во зле. Зло – это не некая богоданная сущность или свойство сущности, а своевольное отвращение от естественного к противоестественному, что, в действительности, и есть грех. Грех – это изобретение свободной воли диавола”. <…> То есть зло — это не самостоятельная сущность, возникшая когда-либо по какой-то причине, но состояние личности, отвратившейся от Бога. Не природа, а личность порождает и генерирует зло, когда становится на путь греха, который есть вместе с тем и путь богоборчества» (прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии (учебник). Цит. изд. С.163).
И объяснение этого «парадокса православного богословия» заключается как раз в его идеологической неоднородности, потому что, по учению Апостолов, масштаб зла в падшем мире обусловлен изменением самой природы человека, т.е. именно субстанциональным характером зла человеческого естества, перерожденного прародительским грехом (о чем тот же Леонов достаточно убедительно говорит далее, характеризуя последствия грехопадения, только не замечает противоречия декларированным им ранее догмам «богословия личности» и «православного неоплатонизма»). Потому что идея о невлиянии личной греховности на благость природы – это пережиток все той же эллинистической «мудрости» в патристической мысли. Ложная богословская концепция неизменности «доброй» природы вообще и природы души, особенно, коренится в античном идеализме, в его концептах «большого и малого космоса», «гармонии сфер», «эйдосов», «эманации», «логосов» и т.д.
«Ум — первая энергия Блага и первая его сущность; Благо пребывает недвижимо в самом себе, Ум же действует и как бы живет вокруг Блага. Душа, в свою очередь, находится вокруг Ума, как бы обтекая его, и, всматриваясь в Ум, в глубинах его прозревает Благо. <…> Итак, если такова природа истинно-сущего и того, что следует за истинно-сущим, то зло не может находиться ни в том, ни в другом, ибо они благи. Таким образом, если зло и существует, то существует оно лишь в царстве небытия, как некий вид не-сущего, существует в чем-то, смешанном с небытием, или в той или иной степени причастном небытию» (Плотин. Эннеады. 1.8.2-3. Цит. изд. С.26-27).
Поэтому и фундаментальный для христианской антропологии догмат первородного греха оказывается искаженным этим «парадоксом православного богословия», потому что вместо апостольского учения о становлении греховной (или «злой») самой человеческой природы после грехопадения прародителей, тут начинается «растекание мыслью по древу» в попытке совместить несовместимое, т.е. божественную истину св. Апостолов и «мудрость мира сего» (1Кор 1:20) «великих» Аристотеля, Платона, Пантена, Климента, Оригена, Плотина...
«…потомки унаследовали не личный грех Адама и Евы (личная вина неотъемлема от личности, она не имеет особой субстанции, чтобы её можно было передать), а греховное состояние… И эта унаследованная греховность определяла условия жизни человека во всех сферах его бытия до времени пришествия в мир Спасителя» (прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии (учебник). Цит. изд. С.190).
Но если «унаследованная греховность [Адама и Евы] определяет жизнь человека во всех сферах его бытия», то это и означает, что их личная вина перешла на саму «субстанцию» их потомков, и поэтому «весь мир лежит во зле». Однако сделать такой однозначный вывод православному автору, как было сказано, не дают противоположные идеи эллинистического идеализма, широко представленные в святоотеческом наследии, на которые он тоже вынужден ссылаться. В результате лежащая в «основе православной антропологии» формула «зло коренится не в сущностях, но в личностях», оказывается не чем иным, как отрицанием непреодолимого влияния первородного греха на человеческую природу как только «личного греха» прародителей. Раз согрешить (согласно «великим александрийцам» Пантену, Клименту и Оригену) можно только добровольно, то, значит, и никакого «греховного закона» (Рим 7:23) всей падшей в Адаме человеческой природы и природной воли не существует, – все это «крайности» незадачливых толкователей, богословские «перегибы» несовершенных в «царственной диалектике» христиан. И после грехопадения Адама можно держать в своих руках «бразды правления своей природой» и свободно «оставаться в таком состоянии, в каком [она была] сотворена», примером чему служат ветхозаветные и языческие «мудрецы»…
«…зло [как недостаток или излишек, свойственный материальным телам] завладевает нами часто против нашей воли, но есть среди нас те, пусть их и немного, кто способен найти в себе силы бежать от зол, гнездящихся в наших душах» (Плотин. Эннеады. 1.8.5. Цит. изд. С.30).
Поэтому таким контрастом к «умеренному оригенизму» Иоанна Дамаскина выступают слова другого святого из того же города – Петра Дамаскина, которые прот. Вадим Леонов приводит тут же в качестве эпиграфа. «Человек есть не иное что, как только малое и скоро исчезающее зловоние и худший всей твари [по причине греха]. Никакая иная тварь, ни бездушная, ни одушевленная, никогда не извращала определения Божия, но только человеческое естество, много облагодетельствованное и всегда много прогневляющее Бога» (св. Петр Дамаскин. О второй заповеди и о том, что страх рождает плач / Творения. Кн. 1. М., 1874. С.39 / прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии. Цит. изд. С.162). Мы видим, что определение св. Петра «одушевленного человеческого естества» как «всегда прогневляющего Бога» тождественно по значению апостольскому выражению «весь мир лежит во зле» (1Ин 5:19). И как великие каппадокийцы не замечали, что их «неоплатонические» толкования 1Ин 5:19 не соответствуют фундаменталистскому содержанию этого стиха, так автор учебника по «православной антропологии» не замечает, что пересказываемая им эллинистическая баллада про то, что «греховной природы» не существует, находится в вопиющем противоречии с выбранным им эпиграфом. Потому что если св. Петр Дамаскин прямо говорит, что «человек» как таковой есть «греховная тварь», то св. Иоанн Дамаскин (на больший авторитет которого вынужден опираться Леонов в своем построении «основ православной антропологии»), шествуя «царским путем золотой середины», опровергает утверждения и св. ап. Иоанна, и св. Петра как «крайние», по традиции оригенического волюнтаризма, ограничивая существование греха и зла в мире исключительно областью личностного бытия:
«зло коренится не в сущностях, но в личностях» (прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии (учебник). Цит. изд. С.163).
А в вере Апостолов наоборот: «прилежит мне злое» (Рим 7:21), т.е. зло коренится именно что в сущности ветхого человека, поэтому ни одна личность этой природы не может его избежать.
«Необходимо еще раз вспомнить, что личность метафизична. Она определяет неповторимый способ существования конкретной тварной субстанции, реализуется в ней, связана с нею, но не является отдельным природным объектом. Личность – это тот, кто обладает своей природой» (прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии (учебник). Цит. изд. С.163).
Т.е. Метафизическая Личность в «православном учении о человеке» управляет собственной природой и поэтому способна ее преодолевать, что является утопией, характерной для гностического (т.е. религиозно-ложного, языческого) сознания. А в апостольском Христианстве наоборот: природа обладает личностями, и никто не может существовать вопреки своей природе. Даже грехопадение совершается, исходя из тварности и поэтому изменчивости природы. Ни ангелы, ни прародители человечества не могли ни пасть, потому что тварная природа априори падка. Сделаться непадкой для нее и означает обрести богоподобие, ибо только божественная природа неизменна. Поэтому стать непадкими, или обрести спасение, все тварные создания могут только по божественной благодати, а не путем личностного выбора и «роста». Спасение, или «приснобытие» (в терминах «православного неоплатонизма») разумной твари может быть только даровано ей Богом, потому что по своей собственной природе она обречена погибнуть, возникнув из небытия. Поэтому и удержание части ангелов от падения, и спасение части людей после грехопадения осуществляется непреодолимым действием божественной благодати на их природу, а не усилием воли (потому что сама их природная воля при этом является таким же объектом воздействия благодати или даже воля – в первую очередь). Поэтому «логосы» – это воления нетварного Бога, а не тварной личности; божественные предопределения, а не самоопределения сущих. Поскольку Божья воля в отличие от человеческой не может остаться неосуществленной, постольку воление здесь равно действию.
Таким образом, среди всех приведенных нами святоотеческих цитат адекватными по значению и по духу словам св. ап. Иоанна о «всем мире, лежащем во зле», может считаться только столь же «крайнее» в своем антропологическом нигилизме определение «одушевленного человеческого естества» после грехопадения, которое дает св. Петр Дамаскин («всегда прогневляющее Бога»). В остальных же толкованиях приходится констатировать явное влияние неоплатонической философии (прямое или опосредованное), значительно искажающее апостольский смысл. Аналогичным образом соответствующим учению св. ап. Павла о предопределении ко спасению являются учение блж. Августина о непреодолимом действии благодати на избранных во Христе по причине ее предвечного «преуготовления» для них (и, соответственно, не «преуготовления» для всех остальных самоопределяющихся ко злу как духовной смерти). Что в неоплатонических терминах патристики коррелирует с понятием «логосов приснобытия» и означает благоволение Божие о «спасении по крайней мере некоторых» (1Кор 9:22) среди погибшего во грехах мира, т.е. независимо ни от кого и ни от чего, кроме Самого Бога. «За это [безмерное преступление, совершенное нашими прародителями] осуждена вся масса человеческого рода, потому что учинивший это впервые наказан со всем потомством, которое в нем коренилось, так что от этого справедливого и заслуженного наказания никто не освобождается иначе, как милосердной и незаслуженной благодатью, и род человеческий распределяется таким образом, что на некоторых открывается вся сила благодати, на остальных же – вся сила правосудного отмщения» (О Граде Божием. XXI, 12 / блж. Августин. Творения. Цит. изд. Т.4. С.472).
Александр Буздалов
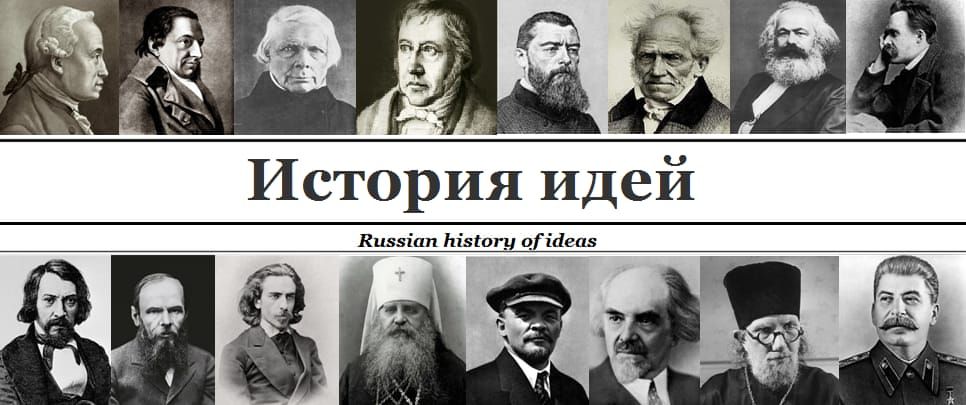





Комментарии
Сергей
2025-09-07 16:31:14
Гнозис - знание , просвещение. Культура - культ ра, культ света, просвещение. Наука - знание, просвещение, овладение миром.. Люцифер - несущий свет, просветитель.. развиватель-извиватель... Не одно ли тоже это все? Не правильно ли называть не 'гнозис', а люциферианство..?
Буздалов А. - Сергею
2025-09-07 19:15:35
Этой теме посвящена моя книга "Солнце Церкви и "лунный свет" культуры" (https://history-of-ideas.ru/article/225)