Кто нападал на Златоуста и почему?
Дата создания:

Святитель Иоанн Златоуст (копия). Монастырь Хосиос Лукас. XI в. Греция. Мозаика. Работа: Дмитрий Максименков. 2001 г. Фото: А.Поспелов / Православие.Ru
Полупелагианский «сдержанный оптимизм» в оценке последствий первородного греха, свойственный антропологии антиохийской, каппадокийской и александрийской (оригенической или евагрианской) богословских школ, которые в сумме и составляют святоотеческую традицию исторического православия, хорошо виден в толковании представителями этих школ стиха Гал 5:16, в котором Апостол противопоставляет новую природу души христианина, «рожденной от Духа» (Ин 3:6) в Таинстве крещения, и ветхую природу тела (и после этого сохраняющего приобретенные в результате первородного греха свойства страстности, тленности и смертности), из-за чего между ними возникает онтологический антагонизм различных природ ветхого и нового Адама: греховной природы первого и святой природы Второго. Что вызывает более или менее выраженное несогласие и полемику представителей данной традиции, так как существенно расходится с их учением о человеке и его спасении, несущим на себе неизгладимый след эллинистического гуманизма.
«”…ибо плоть желает противного духу, а дух – о противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы” (Гал. 5:16,17). Здесь некоторые нападают (на нас), говоря: “Вот и апостол разделяет человека на два, представляя его как бы составленным из противоположных природ, раз приписывает борьбу против души телу”» (свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание Галатам / Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1904. Т.10, кн.2. С. 803).
Кто бы ни были упомянутые «некоторые», их, несомненно, следует похвалить за принципиальность и неравнодушие в данном случае, когда искажается божественное Писание. Потому что в антропологии Апостола дело обстоит дело именно так, как они говорили: после Крещения новый человек во Христе, действительно, «составлен из двух противоположных природ» безо всяких диалектических «как бы» и «не совсем» (столь свойственных православному мышлению по причине его идеологического синкретизма, или неоднородности происхождения). «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое» (Рим 7:18-21). «Желание добра во мне» здесь означает волю нового человека, «привитого» благодатью к новому Адаму (Ин 15:1-7; Рим 11:16-17), поэтому его воля хочет того же духовного «добра», что и человеческая воля Христа, движимая божественной благодатью. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим 8:14). В отличие от ветхого человечества, «утопающих во грехах, водимых различными похотями» (2Тим 3:6). Поэтому «если вы духом водитесь, то вы не под законом» (Гал 5:18). Каким законом? – Моисеевым законом, который дан ветхому человеку с его «законом» падшей природы, которой «прилежит злое» (Рим 7:21) и который по этой причине он не в состоянии исполнить. Освобождение Христовой благодатью от закона означает выведение нового человека от неизбежного осуждения божественным правосудием, помилование его за совершенные прежде смертные грехи и за те прегрешения, которые он продолжает совершать и после крещения именно по той причине, что действие второго «закона», т.е. ветхого закона греховной природы, продолжается. «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодать Бога моего Иисуса Христа, Господа нашего [латинский перевод Августина]. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим 7:24-25).
Поэтому все дальнейшие возражения Златоуста справедливо «нападавшим» на него в этом богословском споре, адресуются, прежде всего, самому Апостолу, разделяющему человеческую природу на две и противопоставляющего «закон духа жизни во Иисусе Христе» – «закону греховному» «жизни по плоти» в ветхом Адаме. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Рим 8:1-2). Т.е. божественная благодать как закон существования природы нового Адама освободил христиан как причастников Его святого человечества от закона первородного греха, безраздельно царящего в ветхой природе и производящего в ней греховные похоти, т.е. злую волю, которая является непреодолимым «законом» существования падшей природы, никак иначе не могущей осуществлять свою жизнедеяльность. Поэтому «по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим 7:22-23).
Что еще раз подтверждается в «Апокалипсисе Иоанна», в котором различаются два вида смерти и два вида «воскресения» как именно духовное и физическое (Откр 20:5-6). Т.е. душа воскрешается благодатью сразу, уже в этой жизни (почему, собственно, и становится возможна христианская «жизнь не плоти, но по духу»); тогда как «тело греха», осужденное за преступление Адама, должно умереть своим чередом, чтобы быть воскрешенным в тропосе новой природы (бесстрастной, нетленной и бессмертной) только во Второе Пришествие.
И вот против этих определенных словом Божиим двух разделенных бездной законов существования ветхой (греховной) и новой (духовной, или благодатной) человеческой природы и соответствующих каждой природной воли и действия выступает Константинопольский архиепископ Иоанн с позиций, конечно же, волюнтаристского самовластия души. Дескать, «мы» (человек как таковой) «не были рабами никому и никогда» (Ин 8:33), поэтому и когда «живем по духу», и когда «живем по плоти», делаем это по своей «свободной воле», никем и ничем не детерминированной (в частности, никаким «как бы законом природы», с которым к нам лезут «некоторые»), за что получаем или причитающееся Царство Божие или заслуженное осуждение и т.д. (т.е. все, как в антропологии и сотериологии Пелагия и Евагрия, Нестория и Феодора).
«Но это совершенно несправедливо [представлять человека составленным из противоположных природ и приписывать борьбу против души телу], так как плотию он называет здесь не тело; а если разумеет здесь тело, то какой смысл будут иметь следующие далее слова? “Желает, – говорит, – противного духу”. Но ведь тело принадлежит к числу вещей не движущих, а движимых, не действующих, а которыми действуют, – как же, в таком случае, оно желает? Желание, без сомнения, принадлежит душе, а не телу. <…> Плотию он обыкновенно называет не природу телесную, а злую волю, напр., когда говорит: “ вы не по плоти живете, а по духу” (Рим. 8:9); и еще: “живущие по плоти Богу угодить не могут” (Рим. 8:8)» (свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание Галатам. Цит. изд. С. 803-804).
Иными словами, решительно отвергая апостольский антагонизм природ ветхого и нового человека, великий антиохиец не допускает и различия свойственной каждому естеству природных воль, полностью оставляя эту разницу «свободе самоопределения человеческой личности» (в современной терминологии исторически победившего религиозного гуманизма).
«Плотию он называет здесь помысл земной, легкомысленный и нерадивый, а в последнем виновато не тело, но беспечная душа» (свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание Галатам. Цит. изд. С.804).
Соответственно, и «духом» Апостол в понимании великого антиохийца называет не благодать Христову, даруемую новому человеку, но «духовный помысл» той же души, исходящий от ее естественно-богоподобной «умной части» (в терминах «православного неоплатонизма»). А значит, никакого непреодолимого «закона греховного» не существует: во всех грехах виновато личное нерадение и беспечность каждого, – авторитетно заявляет нам этот «лучший в мире толкователь Апостола» (согласно конфессиональной мифологии).
«Но, – скажет кто-нибудь, – называть грехи души именем плоти именно и значит обвинять тело» (свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание Галатам. Цит. изд. С. 804).
А именно, «тело смерти» (Рим 7:24), как прямо говорит об этом Апостол… Но нет, в Константинополе как в миром центре православной герменевтики лучше разбираются в этих вопросах.
«Я же признаю, что хотя плоть и ниже души, но и она прекрасна. <…> Если же (апостол) говорит: “плоть желает противного духу”, то говорит о двух противоположных видах помыслов, – о добродетели и пороке, так как именно они противятся друг другу, а не душа и тело. Таким образом, не о теле и душе говорит (апостол) в словах “противятся друг другу”, а указывает на борьбу злых и добрых помыслов. Желать и не желать – есть, конечно, дело души» (свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание Галатам. Цит. изд. С.804).
Т.е. ни у помыслов, ни у воли, ни у поступков человека нет иных причин, кроме «свободы воли». А значит, и «освобождать» его в этом (духовно-нравственном) отношении не от чего: никакой «закон» не властен над ним, кроме верховного закона свободы самоопределения.
На стороне возражавших великому антиохийцу «некоторых», как и следовало ожидать, оказывается и блж. Августин, апостольским толкованиям которого свойственно, во-первых, адекватная оценка тяжести первородного греха, а во-вторых (или как следствие) сотериологический моноэнергизм благодати. «…святые, к которым относится благодать избавления, в этой жизни пребывают во зле, из которого взывают к Богу: “Избавь нас” от зла» (Мф.6:13). <…> Ведь у них “плоть желает противного духу, а дух – противного плоти” (Гал.5:17), и просят они, трудясь и подвергаясь испытанию в подобном борении, чтобы дана была им сила бороться и победить посредством благодати Христовой» (блж. Августин. Об упреке и благодати. §29 / Блаженный Августин. Антипелагианские сочинения позднего периода. М., «АС-ТРАСТ», 2008. С.245-246).
На стороне же великого антиохийца, как было сказано, оказываются пелагиане. «В основе пелагианского воззрения на человеческую природу лежала мысль о происхождении каждого человека непосредственно из рук Творца. <…> “Кто, спрашивает Пелагий, дал человеку дух? Без сомнения, Бог. Кто создал плоть? Также Бог. Благ ли Создавший то и другое? Без сомнения. Итак, не благо ли и то, и другое, созданное Богом, дух и плоть? Конечно” [De natura et gtatia. n. 63]. <…> Описание совершенств Адама Пелагий прилагает ко всем людям. <…> Пелагий не отличал состояния первозданного человека от состояния тех людей, которым был дан закон Моисеев: и тот и эти были поставлены в совершенно одинаковые условия по отношению к видимой природе и к закону Божию. <….> Точно также и физическая природа как первозданного человека, так и всех потомков его отличается полным совершенством и целесообразностию устройства всех отдельных частей ее. Все влечения, имеющие свою основу в самом строении человеческого организма, совершенно естественны и невинны. Человек может употреблять во зло естественные влечения чувственной природы, подобно тому как “содомиты согрешили в хлебе и вине”, но отсюда не следует заключать о греховности самых этих влечений, а нужно обвинять единственно злую волю человека» (свящ. Александр Кремлевский. История пелагианства и пелагианская доктрина. Казань, типо-литография Казанского университета, 1898. С.172-175). Причем эта солидарность Златоуста и Пелагия в учении о неприкасаемой свободе воли носило не только заочную форму, но имело и прямые исторические соприкосновения. «Несомненно известно, что как сам Пелагий, так и другие вожди пелагианства, были знакомы с произведениями восточных отцов и ссылались на них, особенно на Златоуста, в подтверждение именно своего учения о свободе воли. Наконец, очень естественно предположить влияние классической литературы на возникновение заблуждений Пелагия. О широком увлечении тогдашнего западного общества классическою литературою свидетельствуют единогласно все западные церковные писатели IV-го века. Натуралистическое воззрение языческих писателей очень легко могло повлиять и отразиться на воззрениях христианских читателей помимо желания и сознания последних. Пелагианский же взгляд на человеческую природу очень близок к естественному, натуралистическому воззрению классических писателей на природу человека» (свящ. Александр Кремлевский. История пелагианства и пелагианская доктрина. Цит. изд. С.23). Что означает, что тем же «натуралистическим воззрением на природу человека» обусловлен и гуманистический волюнтаризм представителей восточной патристики IV в., «помимо желания и сознания последних», если смотреть на них объективно, без конфессионального предубеждения в их непогрешимости. Отсюда та же самая, что и у Пелагия, «натуралистическая» оппозиция Апостолу со стороны великих антиохийцев и каппадокийцев в учении о «свободной воле» как единственной причине зла.
«Получить желаемое, обрести искомое – в нашей воле, как скоро захотим сего, и зависит от нашего произволения. Равным образом и наклонность к худому происходит не от вне по какой-либо понуждающей необходимости; зло происходит вместе с самым соизволением на зло, приходя в бытие тогда, когда мы избираем его; само же по себе, в собственной своей сущности, вне произволения зло не существует. Из сего ясно открывается самоправная и свободная сила, какую Господь естества создал в естестве человеческом для того, чтобы от нашего произволения зависело все и доброе и худое» (свт. Григорий Нисский. О блаженстве. Слово 5 / свящ. Александр Кремлевский. История пелагианства и пелагианская доктрина. Цит. изд. С.21-22).
Апостол же говорит о возникшем в результате грехопадения непреодолимом для самого человека «законе греховном», т.е. о существовании именно греховной природы с присущей ей злой волей, неизбежным проявлением которой выступает греховное произволение каждого носителя этой природы. Потому что именно так функционирует первородный грех, поражая саму природную волю падшего в Адаме человечества. Что, как мы в очередной раз убеждаемся, отрицается восточной патристикой порой не менее решительно, чем пелагианской, а значит, антропология и сотериология этой богословской традиции тоже весьма существенно искажает учение Священного Писания по этим догматическим вопросам.
Продолжающий традицию великих антиохийцев и каппадокийцев свт. Феофан Затворник, не подозревая о том, что она, на самом деле, оппозиционна в отношении учения Апостолов, в частности, безгранично доверяя толкованиям Златоуста как маяку истины во тьме жизни, сполна демонстрирует нам его скрытые эллинистические установки, которые в первоисточнике можно не заметить за византийской риторикой.
«Что значит Духом ходить? У нас есть и свой дух, богоподобная сила, вдунутая в человека от Бога, которой назначение вводить человека в жизнь в Боге и держать в ней. Стихии нашего духа – сознание Божества с чувством всесторонней от Него зависимости, страх Божий, сознание обязанности благоугождать Богу, уверенность в блаженной вечности. Всеми этими стихиями дух устремлял человека от себя и от всего тварного к Богу, как последней цели, все прочее обращая в средство к ней. Когда человек пал, то ниспал от Бога, и остановился на себе, и себя поставил главною целию жизни. Дух потерял над ним власть, вместо него стало парить в нем самолюбие. Из самолюбия развились гордость, своекорыстие, сластолюбие, а от этих потом – все полчище страстей. Все они в разных оттенках стали заправителями жизни человека. Дух замолк, и, если подавал иногда голос, его не слушали» (свт. Феофан Затворник. Толкование Послания Апостола Павла. К Галатам. М., Правило веры», 2005. С.518).
Т.е. не так тяжек и непоправим первородный грех, как утверждали «некоторые, нападавшие» на Златоуста, «впадая в крайность». «Естественная благодать» человеческой души, «вдунутая» в нее при ее творении, не погибла окончательно под глыбой Адамова греха, но только «умолкла» на время. Есть у человеческой души свои природные «духовные стихии», которыми она может идти навстречу Божией благодати.
«Сознанием и свободою переходит человек на сторону духа и там производит все дела свои» (свт. Феофан Затворник. Толкование Послания Апостола Павла. К Галатам. Цит. изд. С. 520).
Поэтому говорит не «у нас был и свой дух» как «богоподобная сила» души (пока человек не пал), но она «у нас есть» и сейчас, т.е. в ветхом состоянии природы. И ею, как подобное с подобным, мы можем и должны «соработать» Богу в деле своего спасения, а значит, приобретать благодать Духа не как дар Божий, но как заслугу свободной воли.
«Вместе с словом чрез слух входит в сердце благодать и пробуждает дух человека. Проповедь говорит: востани, спяй (Еф. 5:14). Когда благодать воздействует на дух, он встает» (свт. Феофан Затворник. Толкование Послания Апостола Павла. К Галатам. Цит. изд. С. 518-519).
Т.е. встает никак мертвый из гроба, или как новое творение из небытия, но как спящий ото сна, или как болящий со своего ложа.
«Из этого объяснения сам собою решается вопрос, какого духа разумеет Апостол в сем месте, – нашего или Духа Святаго. И того, и другого в сочетании. Наш дух не имеет силы дать нам жизнь духовную сам по себе. И Дух Божий не даст ее, если не будет воспринят нашим духом. Когда же они сочетаются, тогда наш дух становится сильным от Духа Божия, и Дух Божий чрез наш дух действует на нас и на все наше и все освящает и совершает. Ходящий в духе – Духом Божиим ходит, но ходит по стихиям духа, первоначально в человека вдохнутого» (свт. Феофан Затворник. Толкование Послания Апостола Павла. К Галатам. Цит. изд. С. 519-520).
Одним словом, как сказал другой великий представитель «православного пелагианства»,
«удивительно, что может сделать с душой человека один луч солнца!» (Достоевский Ф. Униженные и оскорбленные / Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30-и томах. Л., «Наука», 1972. Т.3. С.169).
Т.е. немного нужно внешнего «солнца» (трансцендентной силы), чтобы запустить атомный реактор внутреннего «солнца» (имманентной силы) человеческого духа. В той же гуманистической концепции «унижения и оскорбления» (или «повреждения») богоподобного «достоинства человека» трактует догмат первородного греха и традиция восточной патристики.
Таким образом, если апостольское Христианство решает вопрос спасения человека в парадигме «рождения от Духа» или «воскрешения мертвого» сверхъестественной силой благодати нового Адама, то традиция «православного оригенизма» решает эту же проблему в парадигме «восстановления» падшего первого Адама при его активном участии. Православное «спасение» – это не чудесное сотворение Богом новой природы из праха ветхого естества, но оригенический «апокатастасис» все той же «первоначальной» природы, т.е. путем обратной неоплатонической метаморфозы «плотского» в «духовное», «страстного» – в «бесстрастное», «чувственного» – в «умопостигаемое». Потому что догмат первородного греха никогда не воспринимался в этой традиции в апостольской парадигме духовной смерти, но – в гораздо более оптимистичной (или идеалистической) эллинистической парадигме «повреждения природы» и ее последующего благополучного восстановления «натуралистическим» путем эволюции как «самосовершенствования» с «помощью благодати».
Александр Буздалов

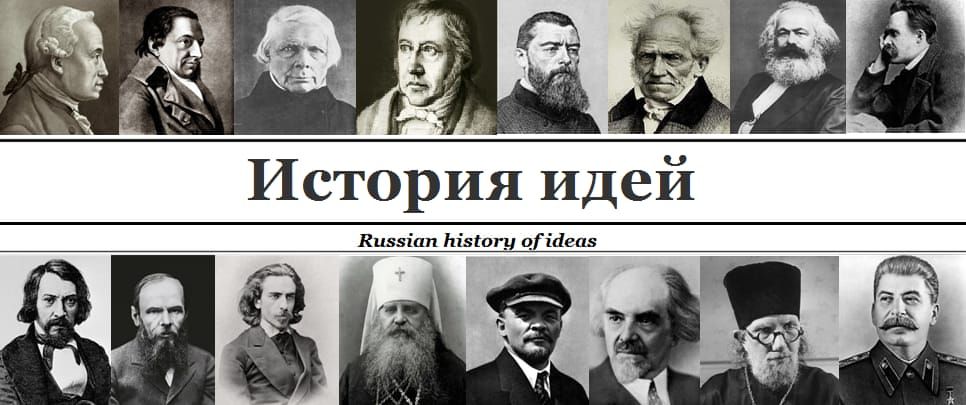




Комментарии
Фотиния
2025-10-13 16:03:44
Когда благодать воздействует на дух, он встает» (свт. Феофан Затворник. Толкование Послания Апостола Павла. К Галатам. Цит. изд. С. 518-519). Феофан Затворник не подобрал удачного образа. Имеется в виду что дух человека мертвая матрица а благодать действует не на пустой череп а на то что в нём. Не как лучик действует. а как сама Жизнь Господь -восстановление, оживление, очищение созданного уже Творцом и погубленного дьяволом( в союзе с свб произволением человека) А у Вас образ грецкого ореха, ядро которого нужно сново создавать . Он уже создан. Если гнилой орех мог бы стать целым ,его матрицу не нужно заново создавать ,но влить жизнь не солнца а Бога и орех станет целым. Так и с мозгами .с духом ума дело обстоит. Дух человека ведь тоже создан. Он не подобен Духу Бога .здесь ересь. Дух Бога оживляет мертвый дух (уже создан) человека только в этом смысле можно толковать . У св Феофана толкование часто с психологизмом и это мешает. В этом случае дух времени влиял на него. Свт Иоанн Златоуст всей своей жизнью, страданиями, смирением показал что он никогда не надеялся на себя как Пелагий и никогда не учил о человеке Христе или спасение всех как Ориген. Проповедь Евангелия не только в слове но в живой вере прежде всего. проповедовать- один из самых тяжёлых трудов. не мной замечено. И свтИоанну Златоуста был дан дар слова, он как святитель Николай обращал внимания на самых бедных и несчастных а самых великих по земному положению ,не боялся обличать. Святитель Иоанн Златоуст научил как жить целомудренно и по Евангелию многие народы.
Буздалов А. - Фотинии
2025-10-13 21:32:57
++А у Вас образ грецкого ореха++ Да это не у меня, это у Апостола так: " А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почётного [употребления], а другой для низкого?".
Буздалов А. - Фотинии
2025-10-13 21:44:05
Вы ничего не понимаете, вернее – не понимаете главного, поэтому советуете ерунду. У человека вообще нет никого «собственного духа». Априори. Дух – это только Бог. А тварь это не-дух. Душа как дух - это чистый неоплатонизм. То, что «вдохнуто» в Адама и что сделало его «душою живою» – это благодать Духа. Поэтому Дух Святой в канонических молитвах Церкви называется «Жизни подателем». Ушла благодать – никого «собственного духа» не осталось, потому что его НИКОГДА И НЕ БЫЛО. А у них (с подачи аввы Оригена и аввы Евагрия) это «высшая часть души» как нечто неотъемлемое от ее собственной «сродной» Богу природы. Поэтому в «православном оригенизме» всех перечисленных Вами святых это не какие-то там неудачно подобранные метафоры и прочая лирика. Это в корне не христианская антропология. Т.е. это догматические ошибки. Понятно, что признать это ни у кого в Церкви уже не хватит духу. Поэтому пелагианство и оригенизм исторически победили.
Михаил
2025-10-14 01:29:39
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.Пс. 50 в нем содержится христианское учение о покаянии и о благодати Духа Святаго, возрождающего человека. В псалме этом преподается знание о том, что главнейшее наказание Божие состоит в том, что от согрешившего человека отступает благодать Божия, и он предоставляется собственным ничтожным человеческим [и бесовским, которых еще именуют "духами" злобы поднебесной, по изначальной их принадлежащих к невидимому человеческому глазу,подобно безвоздушному пространству, миру] силам. То есть говоря применительно о духе человеческом и о духах есть сравнение чисто алегорическое, а не сущностное, обобщительное для лучшего восприятия. Какой "собственный "дух" у человека, кроме суеты, который по смерти расплывется как дым. Принадлежность духу [антидуху] мiра сего. Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа Лк. 9:55 Слова Господа: не знаете, какого вы [теперь] духа. Этот дух – дух Христов, и ныне движется во всех правилах и обычаях христианства,Этот же дух действовал и в ветхозаветных праведниках,этот дух животворил и побуждал, и наставял, и научал псалмам и молитвам. Есмь бо и аз человек смертен, подобен всем и земнороднаго внук первозданнаго: и во чреве матерни изобразихся плоть, в десятомесячнем времени согустився в крови от семене мужеска и услаждения сном сошедшагося. И аз рожден восприях общаго аера [духа мiра] и на подобострастную землю спадох, первый глас подобный всем испустих плача Прем 7 Сего ради помолихся, и дан бысть мне разум: призвах, и прииде на мя дух премудрости. Рекоша бо в себе помышляющии неправо: мал есть и печален живот наш, и несть изцеления в кончине человечесте, и несть познан возвративыйся от ада. Яко самослучайно рождени есмы, и по сем будем якоже не бывше: понеже дым дыхание в ноздрех наших, и слово искра в движении сердца нашего:ейже угасшей пепел будет тело, и дух наш разлиется яко мягкий воздух,Прем.2: 2-4 12:1-2 Нетленный бо дух Твой есть во всех. Темже заблуждающих помалу обличаеши, и в нихже согрешают, воспоминая учиши, да пременившеся от злобы веруют в Тя, Господи. Посему, без благодати ничего , окромя осуетившегося ума и упражняющегося в этой суете всю свою короткую жизнь человек в себе от рождения не имеет.Плоть из земли взятая в землю и отходящая, подобно безсловесным: "со братоубиственными погибает яростьми,аще бо кто будет и совершен в сынех человеческих, отсутствующей Твоей премудрости, ни во чтоже вменится".
Прот.Константин,Грузия.
2025-10-14 23:20:14
Подтверждаю Александр, что духовному лицу гораздо труднее чем мирянину пробить лёд еленизма, не по трусости, а по реальной ситуации ,существующей в богословских школах. Я за такой подход: при обличении догматической ошибки всю ответственность переломать на идеологов(Платона, Оригена Итд), а св. Отцов как частное мнение, теологумен. Поверьте, сейчас не мудрено обличить и закончить отстранением от службы, а так не придется. Кроме того, когда речь идёт об очень знаменитых Святых, чьи литургии мы служим особое почтение. Ведь святость не значит непогрешимость, поэтому лучше все стрелы направлять на идеологов, а Отцов какбы жертву влияния.Реально же так и есть.
Буздалов А. - прот. Константину
2025-10-15 01:46:38
Написала мне тут Фотиния еще с десяток комментариев. Не согласна она быть пустотелой «куклою», «шаром» для благодати Духа, желает свою полноценную лепту вносить в духовную жизнь. Поэтому и полупелагианскую «синергию» Святого Духа с чел. «духом» в концепции Затворника неутомимо отстаивает как истину. Поэтому не могу, о. Константин, с Вами согласится. Раньше я тоже так думал, что Оригена или Пелагия можно тревожить, а великих «православных оригенистов» нельзя, это другое. Но оказалось, что это все те же полумеры, все те же компромиссы с ложью. Именно так все и скатилось к нынешней апостасии. Если оставить евагрианскую синергию, то все кончится классическим пелагианством. По-другому не бывает в этой жизни. Посеешь полуправду, пожнешь ложь. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам.» А они ни в какую не согласны быть глиняным сосудам, и ого-ого как взбрыкивают против таких словес, унижающих «человеческое достоинство». И человеку, мол, нужно отдавать должное, и у него есть собственная «духовная сила», не только у благодати Духа. Все, дескать, должно быть в «сочетании». Потому что так у самых-самых великих написано. Так понемногу ложь и берет верх, по чуть-чуть. Не нужно сразу отрицать догмат первородного греха. Достаточно сказать «не совсем» или «как бы». И даже не заметишь, как от Христианства ничего не останется.
Прот.Константин,Грузия.
2025-10-15 02:56:31
Предлагая эту тактику опираюсь на реальную ситуацию.Как только затрагивает св Отцов, своиже не принимают, не говоря о модернистах.Единственная опора авторитетные соборные определения, которыми можно преодолеть эллинизм святых отцов.Но для этого нужно как можно больше такие факты предъявлять, чтоб постепенно менять картину. Я конечно прекрасно понимаю ,за что упрекает Александр, тут вопрос стоит, какой тактикой это делать. Сегодня нужда максимально поднимать соб. Определения по поводу отличия души от ,духа чем больше, тем лучше.Соборность наш главный козырь.Лцчше проиграть в одном направлении и победить войну.
Буздалов А. - прот. Константину
2025-10-16 01:26:11
Соборные определения тоже перевирают по-своему, по-евагрански. Если они Писание то и дело толкуют навыворот или там где «не от вас» у них «не совсем от вас», и там, где «рабство греху (злу)» у них «как бы рабство», так неужели с соборными определениями того же самого не сделают? Интерпретируют как им нужно, повернут на свой гуманистический лад. Или скажут: это западные соборы (как Карфаген), они нам, православным, не указ. В общем, найдут как извернуться своим диалектическим сознанием ехидны. Кроме того, по вопросам антропологии соборов практически и не было. Поэтому тут и все так запущено, кто в лес, по дрова.
Буздалов А. - Фотинии
2025-10-16 01:28:36
++Господь не создаёт Ваш клон, убивается ветхий человек, т.к по сути ветхий не человек а зомби приросшая к личности , паразит, его умертвляем .распинаем в себе. А мертвая душа Духом воскрешается, или иначе рождается в Крещении что одно и тоже. И душа облекается во Христа, дух подчиняется Духу Богу. становится Одним с Ним. Об этом (говорит) свт. Феофан.++ Личность — это и есть ветхий человек. Т.е. это ложное самосознание. Поэтому у Апостола такой «личности» уже не было, поэтому он говорит: «уже не я живу, но живет во мне Христос». И это именно, что вызывает у вас, синергиан-волюнтаристов, категорическое неприятие. Потому что «душевный человек» цепляется за свою «ветхую личность» до последнего, носится с ней как курица с яйцом. И таковы все «православные», противящиеся Апостолу, ведущие с ним бесконечную полемику. И Апостол объясняет, почему это происходит: именно «по ветхому человеку», ибо «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём [надобно] судить духовно». Но ветхий человек почитает свою «душевность» за «духовность». Поэтому и подлинная духовность Духа ему никак не дается. Ибо если ты считаешь, что у тебя есть какая-то своя природная духовность (в качестве высшей части души, типа последней ступени баллистической ракеты, выводящей Личность на космическую орбиту), то значит ты не особо в ней и нуждаешься. Поэтому не дается и понимание того, о чем говорит Апостол. Но если нет понимания, то нужно хотя бы просто верить. А не дискуссию с ним вести.