Теология человека
Дата создания:
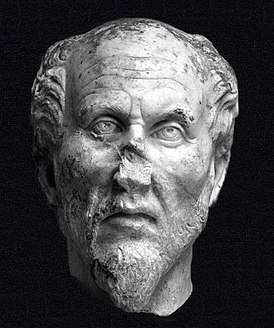
Плотин
Теология человека – вот еще одно емкое определение,
которое можно дать новому гностицизму, суть которого заключается в перенесении
в антропологию чисто богословских (то есть триадологических и христологических)
принципов, в безоглядной проекции сверхъестественного на естественное, смелых
аналогиях тварного и нетварного и т.п. спекуляциях антропотеического характера.
При этом данная фальсификация осуществляется путем нового прочтения
святоотеческого богословия, то есть, его ложной экзегезы. «Анализ его [Н.
Федорова] текстов показывает, что усваиваемая им преподобному
[Сергию] мысль о жизни “по образу Пресвятой
Троицы” скорее принадлежит ему самому. Она возникает в силу того, что,
если Хомяков отождествлял Церковь-организм и Церковь-общину, не продумав
внутреннее соотношение этих определений, то <…> у Федорова происходит
окончательное сближение, если не отождествление понятий (“Троица есть
Церковь”), подразумевающее возможность не только жизни “по образу Пресвятой
Троицы”, но и богословских суждений о внутритроических отношениях по
аналогии с отношениями “я” и “другого”, и таким образом, общий тезис времени
– антропология есть теология (христология) –обогащается новым прочтением:
экклесиология есть Триадология».[1]
Иными словами, то обожение (теосис), которое
составляет сущность ортодоксальной сотериологии, осуществляется в новом
гностицизме альтернативным образом, а именно, на уровне онтологии, а не
харизматологии (как это обстоит в Христианстве). То есть, все те благодатные
характеристики, которые (по догматическому учению) христианин обретает в
Таинствах Церкви, и которыми он принципиально отличается от потомков «ветхого
Адама», этими же самыми характеристиками в новой религии человек наделяется
априори, просто по факту своего существования. Можно проследить, как работает
этот спекулятивный механизм нового гностицизма в богословском персонализме, где
обозначенный принцип антропотеологии реализуется самым наглядным образом.
«Тринитарные и христологические
догматы заложили богословский фундамент познания личностного бытия.
Дальнейшая история экзистенциально осваивала эти ноумены – объекты
мысли. В истории мучительно прорастали истины о божественном
достоинстве, свободе, вселенской миссии, правах и ответственности личности.
Христианские мыслители пытались усмотреть в духовном мире человека отображение
внутритроической жизни Божества, а во взаимоотношении духовной и телесной
природ человека находили христологические параллели. <…> “Человеческий
дух в себе самом содержит постулаты троичности Божества, на нём лежит его
печать” (свящ. Сергий Булгаков). Вместе с тем, тема богоподобия
человеческой личности ещё во многом нераскрыта».[2]
Кратко суть богословского персонализма можно изложить
следующим образом. Христианское понятие «личности» отличается от светского
понятия «индивидуальности» тем, что «развитая личность» обращена своим «ликом»
к «другому», то есть к другой личности, будучи «неслиянно» соединена с нею (и
со всем множеством ипостасей этой природы) единством сущности. В то время как
«индивид» есть не что иное, как та же самая ипостась, но в состоянии
(гностического) «грехопадения», заключающегося в замкнутости падшей «личности»
в себе, в непроницаемости для «других», в атомизации единого естества, чем
преступно нарушается онтологический закон существования этого естества (а стало
быть, и собственный «логос» ипостаси). В Церкви человек обретает новые
(восстанавливает утраченные в грехопадении прародителей) отношения с другими
сущими, достигает божественного тропоса существования, в чем и заключается
смысл христианской жизни (возлюби ближнего как другого себя – и уподобишься
Богу).
Формально, казалось бы, здесь все верно и ничто не
противоречит Евангелию и догматическому учению Церкви. Но дьявол, как
говорится, кроется в деталях, и нигде данная идиома так не актуальна, как в
богословии. Прежде всего, это касается самой постановки вопроса, самой
тенденции нового (антисхоластического, или не-академического) богословия к
отожествлению внутритроической корреляции нетварных Ипостасей и корреляции
«экклезиальных личностей»,[3]
словно бы между ними не существовало никакой онтологической разницы. Потому
что, на самом деле, в Предании Церкви (цитатами из которых тексты
персоналистов, конечно же, не обходятся) мы не находим такого спрямления
отношений. Более того, основная установка святоотеческого богословия носит
вообще обратный характер и заключается в том, что между нетварной и тварной
природой скорее нет ничего общего, даже несмотря на то «богоподобие», которое
разумное творение, действительно, обретает в Церкви посредством
«воипостазирования» божественной благодати. Тем не менее, внутренняя жизнь
Творца остается трансцендентной для твари, потому что божественная сущность
«проникает все сущности, сама оставаясь чистою, пребывает вне пределов всего и
изъята из ряда всех существ как пресущественная и превыше всего сущая».[4] В божественных «энергиях» происходит
нисхождение доступной для разумного творения модуса божественной жизни, а не
вхождение первого в «неприступный свет» божественной сущности, остающейся для
него непричаствуемой, что было определено как догматическое учение Вселенской
Церкви на паламитских соборах XIV в. Бог является в святых («творит Свою обитель»)
Своими божественными действиями, а не наоборот (святые «входят» в божественную
природу как в свою «обитель»). В то время как в новом (квазипаламитском)
богословии происходит именно обратный процесс – в силу указанного
непреодолимого соблазна рассмотрения антропологии – «в свете
христологического [халкидонского] догмата»[5]
и продолжения экклезиологии – в триадологию. И это несмотря на то, что, по
крайней мере, В. Лосский сполна отдавал себе отчет в том, что, «в христианской
антропологии подобие или ассимиляция с Богом, конечно, никогда не может
мыслиться иначе, как только по идущей от Бога благодати».[6]
«…чрез огненные языки явился всем в Своей Ипостаси, и
Владычным образом, как бы на престоле, сев на Христовы Ученики, сделал их
орудиями Своей силы. <…> Почему языки явились для них разделенными?
– Потому что единственному только Христу, сошедшему с небес, не в меру
дается Дух от Отца, ибо Он, также и по плоти, обладает всецелою силою и
действием; ни на ком из иных не почила всеобъемлющая благодать Духа, но
частично каждый – один одно, другой – другое получает из
благодатных дарований, дабы кто не подумал, что даемая от
Духа благодать Святым, является Его не действием, а самым естеством.
<…> ибо они стали орудиями Божественного Духа, действующими и движущимися
по Его воле и силе; всякое же орудие со вне восприемлемое, становится
причастным не естества, но энергии действующего, которая восприемлется от него;
так бывает и в отношении орудия Святого Духа, как и Давид, говоря в
Духе Святом, глаголет: "Язык мой трость книжника скорописца"
(Пс.46:2). Следовательно, пишущая трость есть орудие пишущего, становясь
причастной, конечно, не естества писца, но его энергии, и то
начертывая оное, что пишущий желал бы и мог».[7]
Между тем именно так (как не должно, согласно Паламе)
и наклонны думать представители нового богословия вообще и богословского
персонализма, в частности. Антропотеологический теосис заключается не в
«восприятии» Богом спасающегося «со вне», не в соделании его «орудием Святого
Духа», но, по сути, в противоположном процессе вхождения тварной ипостаси в
нетварную природу на тех же принципах, что и человеческое естество
Богочеловека. Что делает эту антропотеологию скорее разновидностью антропософии
и теософии, чем законным продолжением богословия Предания (или академического
богословия, что одно и то же).
При этом само персоналистическое определение
христианской личности как «несводимости к природе»[8]
может быть истолковано и ортодоксально, поскольку в святых (достигших реального
обожения, к которому христиане призваны), действительно, происходит соединение
человеческого естества и божественной благодати, то есть воиапостазирование
свойства, или силы другой природы, которая как акциденция (неприродное
качество) входит в состав этой ипостаси, причем в различной мере («и звезда от
звезды разнится в славе» (1Кор 15:41)). В этом смысле личность (человеческая
ипостась) святого, безусловно, есть тот, «кто отличен от собственной своей
природы; кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит»,[9] поскольку ипостась святого не полностью
детерминирована его человеческой природой (как ипостась ветхого человека),
которую благодать бесконечно превышает. Кроме того, человек как таковой наделен
способностью выходить за пределы своего естества и в сторону
противоестественного, где каждый также «в свою меру» (то есть, сугубо
индивидуально) стяжает скотоподобие (вместо благодати как богоподобия святых).
Однако этот ортодоксальный смысл «несводимости к природе» христианской личности
в богословском персонализме из харизматологического плана, как было сказано,
так или иначе переносится в онтологический, то есть, утверждается (или
подразумевается), что человек якобы обладает природной способностью сам строить
свою личность по собственному усмотрению в направлении обоих полюсов: не только
свободно деградировать к скотоподобию, но и «духовно развиваться» до
богоподобия либо вообще обладает этим богоподобием по природе («человеческий
дух в себе самом содержит постулаты троичности Божества, на нём лежит его
печать» (свящ. Сергий Булгаков)),
«раскрывая всю динамичность
человеческой природы, которая одарена различными способностями и поставлена
как μεθοριον между возможными подобием и неподобием, что
предполагает, как нам кажется, иное понятие образа, нечто, тесно связанное с
званием личности».[10]
Это и говорит о том, что в богословском персонализме
как доктрине «абсолютного утверждения личности» мы имеем учение скорее
умеренно гностического, чем ортодоксального типа. Принцип «личности»
оказывается общим тропосом существования нетварной и тварной природы,
устраняющим ту онтологическую пропасть, которая существует между ними в
догматическом учении Церкви. Тем самым, мы находим в богословском персонализме
своего рода новый вид оригенизма после классического и нравственного
«оригенизма» славянофилов и их преемников – идеологов «нравственного монизма».
«”Нравственное” в системе Хомякова оказывается тем единственным параметром, по
которому различие между Богом и разумной тварью не качественное, а только
количественное. Историкам еретических учений привычно сталкиваться с системами,
где роль такого параметра присваивается “уму” (в смысле греч. νοῦς, что более
соответствует современному русскому “дух”), или ”умной природе”, — это системы,
связанные с античным мировоззрением, особенно с платонизмом, из которых
наиболее живучей показала себя оригеновская; <…> Но Хомяков жил после
немецких философов и французских моралистов, когда “нравственное (моральное)
единство” звучало примерно так же, как для средневекового человека “единство по
природе”. Отсюда такое полное формальное сходство христологии Хомякова с
оригеновской: Христос несет в полном и неповрежденном виде некое начало,
которое в других разумных созданиях нуждается в восстановлении и восполнении
(Ориген называл это начало “природой ума”, Хомяков — “нравственным существом”).
В обеих системах ни различие тварного и нетварного, ни даже грех не полагают
пропасти между Богом и Его созданием; творение — органическое продолжение
Творца, строго говоря, Его постепенная деградация (ведь не только у платоников
“эманации” Божества суть все более низкие степени божественности, но и у
Хомякова все тварные существа суть все более низкие степени “нравственного”».[11]
Соответственно, у персоналистов таким параметром, или
такой категорий, где между нетварной и тварной природой существует только
количественная, но не качественная разница, выступает уже не «нравственное», но
«личностное начало», где падший «индивидуум» есть та или иная степень
деградации того же «начала», которое в совершенстве и полноте существует в
Божественной Личности.
Откровенное признание Лосского в том, что сам он
«лично не встречал в
святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением
о личности человеческой, тогда как учение о Лицах или Ипостасях Божественных
изложено чрезвычайно четко»,[12]
и говорит о том, что разработанное им учение является
произвольным перенесением в антропологию христологических и триадологических
принципов святоотеческого богословия, что в последнем было в принципе
невозможно. «В отношении же к Господу нашему Иисусу Христу нельзя найти общий
(с людьми) вид. Ибо и не было, и нет, и никогда не будет другого Христа,
Который состоял бы из Божества и человечества, Который по Божеству и
человечеству — один и тот же — был бы и Богом совершенным, и
человеком совершенным. Поэтому о Господе нашем Иисусе Христе нельзя сказать,
что в Нем — одно естество, — то есть нельзя сказать, что как
отдельная человеческая личность сложена из души и тела, так же и Христос сложен
из Божества и человечества. Ибо здесь берется личность, входящая в состав рода,
Христос же не есть такая личность, потому что для Него нет общего вида, под который
бы Его можно было подвести».[13]
Здесь же Лосский не менее откровенно описывает и
метод, которым эта богословская спекуляция осуществляется в
квазихристианском персонализме:
«следовало бы предварительно
спросить себя, в какой мере оправдано само наше желание найти у отцов первых
веков учение о человеческой личности. Не было ли бы это желанием приписывать им
мысли, вероятно, им чуждые, но которыми мы, тем не менее, их бы наделили, не
отдавая себе ясного отчета в том, как зависимы мы в самом методе нашего
суждения о человеческой личности от сложной философской традиции, от образа
мысли, следовавшей путем, очень отличным от того, который можно было бы считать
путем собственно богословского предания? <…> злоупотребляя сознательными
анахронизмами, вкладывая что-то от Бергсона в св. Григория
Нисского или что-то от Гегеля в св. Максима Исповедника...»[14]
В частности, та «несводимость к сущности», с помощью
которой Лосский определяет ипостастность в Святой Троице (и что само по себе
еще можно отнести к апофатической традиции Предания), не может быть ни
отождествлена, ни даже сопоставима с «несводимостью к природе» как принципом
личности в антропологии, где это является уже катафатическим принципом, потому
что здесь эта несводимость, как было сказано, обозначает сложную индивидуальную
субстанцию, а именно, сущего, состоящего из человеческой природы
(которая, в свою очередь, состоит из души и тела) и божественной благодати. Но
в том-то и дело, что богословская проблема человеческой личности, в конечном
счете, решается Лосским не катафатически (через усложнение ипостаси
человеческой природы акциденцией божественной благодати, что было бы
ортодоксальным решением, соответствовало бы концепции обожения паламизма), но
апофатически, то есть, в полной аналогии с ипостасностью божественной природы:
«сформулировать понятие
личности человека мы не можем и должны удовлетвориться следующим: личность есть
несводимость человека к природе. Именно несводимость, а не “нечто несводимое”
или “нечто такое, что заставляет человека быть к своей природе несводимым”,
потому что не может быть здесь речи о чем-то отличном, об “иной
природе”, но только о ком-то, кто отличен от собственной своей природы, о
ком-то, кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит, кто этим
превосходством дает существование ей как природе человеческой и тем не менее не
существует сам по себе, вне своей природы, которую он “воипостасирует” и над
которой непрестанно восходит, ее “восхищает (extasie), сказал бы я, если бы не
опасался упрека, что ввожу выражение, слишком уже напоминающее “экстатический
характер экзистенции (Dasein)” у Хайдеггера, тогда как сам критиковал других,
позволявших себе подобное сближение».[15]
Это и означает, что харизматологическому решению
Священного Предания Лосский предпочитает «экзистенциальную», или «онтологическую
разгадку тайны человеческой личности».[16] То есть, попросту Паламе Лосский предпочитает
Хайдеггера. Также он употребляет термин «метаонтологический» в том же
значении природного воспроизведения в человеческой личности тайны Божественного
Лица.
«Это значит, что уровень, на
котором ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень онтологии,
как ее обычно понимают. И если речь идет о некоей метаонтологии, один только
Бог может знать ее, Тот Бог, Которого повествование Книги Бытия являет нам
приостанавливающимся в Своем творчестве, чтобы сказать в Совете Трех Ипостасей:
«Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт 1:26)».[17]
В частности, само определение личности как
«несводимости к природе» Лосский заимствует отнюдь не у кого-то из св. отцов,
но у западного религиозного софиста Бальтазара, который в свою очередь пришел к
этому термину в контексте своего гностического «синтеза» мифической
«патристики» и реального неоплатонизма.
«Отец Урс фон Бальтазар,
рассуждая в своей книге “Святой Максим Исповедник” о послехалкидонском богословии,
делает одно замечание, которое представляется мне очень верным и в то же время
очень ошибочным. Он говорит: “Наряду с древом Порфирия, который пытается ввести
все существующее в категории сущности (ουσία), как класс, род, специфические
особенности и, наконец, индивидуум (ατομον αιδιος), появляются новые
онтологические категории. Эти новые категории, не сводимые к категориям
сущностным, отсылают нас одновременно к сфере существования и к сфере личности.
Обе эти сферы, закованные в новые выражения (υπαρξις, υποστασις), еще
довольно туманны и нуждаются в точных определениях. Пройдет много времени, пока
Средние века смогут формулировать различение между сущностью и существованием и
выковать из нее структуру модуса тварного бытия... Однако именно в этом
направлении мы и идем, когда наряду со старым аристотелевским расположением
сущностного видим этот новый порядок существования личностного”».[18]
Иными словами, несмотря на все сознание опасности
гностического «направления», в котором шли представители западной
ново-теологической «неопатристики», соблазн следовать с ними параллельным
курсом был для «парижской школы» нового русского богословия не менее сильным.
Поэтому последователи Лосского продвинулись в «этом направлении» уже дальше
самого «отца Бальтазара», или как раз достигли уровня «отца Плотина» и «отца
Порфирия» (и уж точно – «отца Шеллинга», «отца Гегеля» и «отца Хайдеггера»), у
которых человеческий индивидуум это и есть не что иное, как степень деградации
Единого (или степень «развития Абсолюта» – в терминологии философии
всеединства). Здесь уже по самому своему духу богословско-персоналистический
дискурс производит впечатление, обратное святоотеческому дискурсу. Здесь
христианский слух сразу режет идеалистическая риторика, чуждый ортодоксальному
смирению гуманистический (или экзистенциалистский) пафос, богословски
вульгарный сотериологический и эсхатологический оптимизм и т.п. приметы экзальтации
ветхого человеческого разума, ложно переживаемого как благодатное состояние
христианской мудрости.
«Бог воплотился не в образе
ангелов, а в человеке: “Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет
семя Авраамово” (Евр. 3,16). Христианство не только декларировало,
как в Ветхом Завете, что человек – образ и подобие Божие, но и реально
утвердило эту истину воплощением Бога в человеке. Христианство в
основе своей персоналистично и создало возможности для истинной
антропологии: “Один лишь человек существует в Боге и именно благодаря
этому существованию в Боге способен к свободе. Он один есть существо
центральное и поэтому должен оставаться в средоточии. В нём созданы
все вещи и точно так же только через него Бог воспринимает в Себя и
связывает с Собой так же и природу” (Шеллинг). Важнейшие догматические
споры первых веков христианства: тринитарные – о природе
Божественной Троицы, христологические – о взаимоотношении
Божественной и человеческой природы в Иисусе Христе, – одновременно
проясняли и онтологические основания личности, ибо человек
создан по образу и подобию Божию. Человеку важно было узнать
природу Божественного и потому, что это объясняло природу
человеческого. Личность открывала себя по мере того, как открывала Бога, она по
достоинству смогла оценить собственное величие только тогда, когда ей открылось
величие Личного Бога».[19]
После такого религиозного «открытия себя» и «познания
собственного величия» уже и Личность впору писать с большой буквы как
неотъемлемую составляющую гностической «троицы»: Бог-Богочеловек-Человек.
Александр Буздалов
[1] прот. Павел Хондзинский. Русское
вне-академическое богословие XIX века: генезис и проблематика (автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора богословия, ПСТГУ).
М.,2015 (на правах рукописи).
С.50.
[2] Аксючиц В. Христианский персонализм. Святая Троица, Богочеловек и
личность.
[3] Термин митр. Иоанна (Зизиуласа); в
частности, в его кн.: Бытие как общение. Исследование о личности и Церкви. М.,
«Свято-Филаретовский православно-христианский ин-т», 2006.
[4] преп. Иоанн Дамаскин. Точное
изложение православной веры. Гл.VIII. Цит. по изд.:
«Творения преподобного Иоанна Дамаскина.
Источник знания». Изд.-во «Индрик», 2002).
[5] Лосский В. По образу и подобию /
Лосский В. Боговидение. М., «АСТ», 2006. С.652, 653.
[6] Там же. С.670.
[7] свт. Григорий Палама. Омилия XXIV /
Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. М., «Паломник», 1993. Ч.1.
С.242-243.
[8] Лосский В.Н. По образу и подобию /
Лосский В.Н. Боговидение. Цит. изд. С.654.
[9] Там же.
[10] Там же. С.671.
[11] Лурье В.М. Примечания / Хомяков
А.С. Собр. соч. в 2 томах. М., «Медиум», 1994. Т.2. С.375-376.
[12] Лосский В.Н. По образу и подобию /
Лосский В.Н. Боговидение. Цит. изд. С.645
[13] преп. Иоанн Дамаскин. Точное
изложение православной веры. Гл.47. Цит. изд.
[14] Лосский В.Н. По образу и подобию /
Лосский В.Н. Боговидение. Цит. изд. С.645.
[15] Там же. С.654.
[16] Там же. С.656.
[17] Там же. С.657.
[18] Лосский В.Н. По образу и подобию /
Лосский В.Н. Боговидение. Цит. изд. С.655 / Urs
von Balthazar H. Liturgie cosmique. Paris, 1947. P. 21. Ср.: «Греческие отцы (от каппадокийцев до
Плотина и затем византийских богословов) отдавали роль “причины” личности Отца
в обожествленном сущем, распространяя это и на антропологию» (митр. Иоанн
(Зизиулас) Пергамский. Личность и природа в богословии преп. Максима
Исповедника / Метапарадигма: богословие, философия, естествознание. М.,
«Культурно-просветительский центр «ОПЕРА»», 2016. №.10. С. 126).
[19] Аксючиц В. Христианский
персонализм. Святая Троица, Богочеловек и личность.






Комментарии
У этой статьи нет комментариев