Парадоксы «православного социализма»
Дата создания:

Фото: http://iamruss.ru
В современной патриотической историософии, а точнее – в философии
российской истории ХХ в., весьма распространена и достаточно популярна
следующая парадигма: СССР (социалистическая республика) – это восстановление в
новой форме Российской империи (монархии) как тысячелетней Традиции,
разрушенной Февральской революцией (буржуазно-либеральной республикой). Между
тем в основе этой историософской модели лежит не что иное, как либеральная же
гегельянская диалектика, националистически переформатированная еще
славянофилами и почвенниками и, как мы видим, до сих пор эксплуатируемая
отечественной философской мыслью. Для Ортодоксии же (Традиции) как таковой –
Февраль и Октябрь, капитализм и социализм, либерализм и романтизм, белое и
красное – это одно и то же квази- и антихристианство лишь под овчинами разной
выделки.
«Посмотрите, чем питается светское, да и духовное, юношество в
свободное от учебных часов время, что читает, что поглощает своим умом,
памятью, сердцем? Мечтательные романы, вроде толстовских, максимов горьких, или
соблазнительные повести, болтовню, драмы и комедии, и ни у кого из них не
найдешь в руках творений истинно христианских <…> молодое поколение, как
жвачку, пережевывает различные безнравственные романы и всякие книжонки. Но
такова и отрыжка – посмотрите, чем стало наше юношество, какого оно набралось
духа? Духа отрицания всего Божественного, духа вольности, непокорности,
буйства, гордости, разрушения старых добрых порядков, духа невоздержания,
кутежа, воровства, либерализма, социализма, космополитизма, неуважения
родителей и забастовочной праздности. Что будет дальше, если так пойдет дело?
Угадайте!» (св. Иоанн Кронштадтский).1
И советский социализм, и буржуазный либерализм с их идеологиями –
это конкурирующие друг с другом формы демократии; но в отношении Традиции они
практически в равной степени оппозиционны и революционны. Антимонархизм – их
общий знаменатель. Просвещение, Французская революция и немецкий классический
идеализм – их общие исторические истоки. В Октябре произошел переворот не
только в отношении Февраля (капиталистического пути развития новой России), но
и в отношении того же условного «января» (монархии), что более чем очевидно.
«Весь мир насилья мы разрушим /
До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим, — / Кто был ничем, тот
станет всем».
И, действительно, построенный «новый мир» Советского Союза не имел
никакого отношения к канувшей в апокалипсическую бездну последней христианской
империи. Гонения на Церковь Христову было официальной внутренней политикой
новой сверхдержавы, явившейся в этом отношении восстановлением первого, а не
Третьего Рима. Это нью-вавилонское богоборчество и титанизм было провозглашено
даже на уровне государственного гимна (РСФСР 1918
-1922 гг., и СССР 1922-1944гг.):
«Никто не даст нам избавленья:
Ни
бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой».
Поэтому неогегельянская историософская диалектика
(«парадоксальность») «православного социализма», мифологизируя отечественную
историю, вводит людей в заблуждение этой своей идеализацией. Это вредно не
только в плане научной достоверности, но и в плане личной духовной жизни людей,
позиционирующих себя как православные христиане, поскольку моделирует у них
«диалектическое» (гностическое) отношение ко греху вообще, получающего в данной
системе двусмысленную оценку как якобы имеющего позитивное зерно, являющегося
условием и потенцией развития. Вот очередной яркий пример этого «парадоксализма»:
«Февраль разбудил в стране
пассионарные силы, которые смогли дать народу большие цели, более
соответствующие, в конечном счете, национальной традиции, чем буржуазный
парламент с министрами-миллионерами. Это были очень жестокие силы, но такова оказалась
цена сборки страны после либерального погрома. <…> Февральская
революция 1917 года представляется великим парадоксом. С одной стороны, это
трагический прерыв традиции, благодаря которой российская
государственность существовала, условно говоря, тысячу лет, на основе
определенного религиозно-цивилизационного архетипа. В феврале этот
архетип был почти разрушен, но через девять месяцев – по историческим меркам,
мгновенно – он начал восстанавливаться, хотя и под другими знаменами, в
других социально-политических формах. Как говорит Мефистофель у Гете, он часть
той силы, что, вечно желая зла, вечно совершает благо... <…> С точки зрения философии истории, Февральская
революция – это один из ключевых моментов воспроизводства Россией самое себя,
причем через “отрицание отрицания”, как сказал бы диалектик Гегель. Основной ее
урок в том, что верховная власть в России коренится в области
религиозно-мировоззренческого ядра русской цивилизации. <…>
Таким образом, вольно или невольно Февраль 1917 года оказался первым
звеном цепи событий, приведшей через несколько лет к формированию новой
колоссальной империи, которая опиралась не только на народные традиции, но и на
превращенные формы православия и самодержавия. В цивилизационном плане февральская
революция привела скорее к смене элиты в рамках одного и того же
культурно-исторического типа (термин Н.Я.Данилевского), чем к замене самого
типа. В этом ключе февральская революция сыграла положительную
роль по отношению к осуществлению цивилизационного идеала, составляющего
“сквозное действие” истории России вплоть до сегодняшнего дня. Она ясно
показала, что либеральная буржуазия – тогда в лице Временного
правительства – Россией управлять не может. Как конкретный политический проект,
Февраль потерпел полное историческое поражение, но привел к своей
мировоззренческой и социально-культурной противоположности уже в октябре того
же года».2
«Отрицание отрицания» – это весьма опасный для христианина
логический инструмент, прямо противоречащий евангельской заповеди: «да будет
слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф 5:37). Тот
факт, что одно зло отрицает другое (меньшее или большее – на политический
«вкус» каждого), отнюдь не делает его благом само по себе (тем более что мнимо
«контрреволюционное» зло при этом, как было сказано, прямо отрицает и благо как
таковое – Церковь Божию, Христианство). Мефистофель масона Гете – это просто
бес, поэтому «когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец» (Ин 8:44). С
христианской точки зрения, архетипом советского периода российской истории
является скорее следующая формула: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели,
принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его
принимают вид служителей правды» (2Кор 11:13-15). Такова гностическая советская
идеология, где за красными знаменами гуманизма и лозунгами социальной
справедливости и братства, за «потемкинскими деревнями» коллективного
хозяйствования и восстановлением границ российской империи скрывается
антихристианский дух, лукавая забота о земном благополучии человека и вечное
погубление его души в атеистической пропаганде. Тогда как для почвенника
Данилевского, действительно, СССР был бы лишь «сменой элит в рамках одного и
того же культурно-исторического типа», потому что он сам мыслил уже не
христианскими категориями, но «цивилизационными идеалами» гегельянства и
шеллингианства; смотрел на мир «в цивилизационном плане» этого нового
гностицизма, а не в плане Священного Писания; сам только и делал, что подменял
Священное Предание диалектической (или «лукавой» – в терминах Христианства)
философией истории; одним словом, «оставив заповедь Божию, держался предания
человеческого» (Мк 7:8). Никакие «пассионарные силы» и никакие «соответствия
национальной традиции», никакая «сборка страны» и никакое «воспроизводство
Россией самое себя» не могут являться «ценой» репрессий христиан и
воинствующего богоборчества. Это совершенно не приемлемая для Православия
постановка вопроса, лишний раз показывающая псевдоортодоксальную сущность
«православного социализма».
«Прав был бывший
“легальный марксист” Петр Струве: “Россию погубила безнациональность
интеллигенции, единственный в мировой истории случай забвения национальной идеи
мозгом нации”».3
Перестав быть марксистом, Струве так и не стал христианином.
Идеологема «национального» сменила у него идеологему «классового», но это не
более чем другая гностическая подмена догматических категорий Христианства
(Православной Церкви). И это, увы, духовная эволюция подавляющего большинства
людей русского образованного общества той эпохи (в ту или иную сторону, но в
одном диапазоне: от умеренно-консервативного романтизма до радикального
либерализма), поэтому она полностью отразилась и до сих отражается в истории
России, «шатающейся» между полюсами этой мнимой альтернативы. Безусловно, при
либерализме (условно в «феврале») с его религиозной толерантностью происходит
постепенное выхолащивание, протестантизация и обмирщение христиан, теснимых
буржуазной идеологией стяжательства и потребления, как мы это можем воочию
наблюдать сейчас. Но ведь при советском социализме с его атеизмом это же самое
произошло гораздо быстрее, путем простой аннигиляции веры в человеческих душах
и замены ее верой в коммунизм, партию, рабочих и крестьян. Гипотетический же
вариант романтического сочетания социализма с христианством – это не более чем
еще одна форма той же секулярной агонии, о чем говорят сами лукавые обоснования
и аргументация этой модели. «Близость» социализма к Христианству – это лишь
идеалистическая видимость и гностическая подделка, причем весьма грубая. На
самом деле, общего с Христианством здесь не больше, чем в буржуазной системе
ценностей: только в первом случае симулируются «общинные» добродетели
Христианства («братство»), а во втором – индивидуальные («свобода»). Но и в том
и в другом случае подмененными (с божественных на человеческие) оказывается и
основания, и методология, и цели, что придает самим добродетелям этих парадигм
духовно отрицательный гностический заряд. Более того, и «белое» (либеральное и
романтическое) направление отечественной философской мысли искало, по крайней
мере декларативно, «общественной религиозной правды», социального воплощения
«древнего христианства» в формах «нового религиозного сознания». Но, как и
«красное» движение, это было лишь изводом все того же «немецкого классического
идеализма» (то есть гностицизма и/или хилиазма – в ортодоксальной
терминологии). Соответственно, и «православно-социалистическое»
«воспроизводство Россией самой себя» – это все та же гуманистическая религия
самоспасения человека, все тот же титанизм «освобожденья своею собственной
рукой», лишь завуалированный мнимым консерватизмом. Это как если бы Россия в
Феврале приняла протестантизм, а в Октябре «покаялась» – и крестилась в
католицизм, а апологеты Октября говорили бы теперь, что второе гораздо лучше
первого, потому что более «национально»; «ближе» к исконному Православию; что
это такое необходимое космогоническое «преобразование», метаморфоза
эволюционирующего «единого духа» и т.д. Поэтому «превращенные формы православия
и самодержавия» советского периода – с точки зрения христианской историософии
как таковой – это не только возрождение «звериного» древнеримского
империализма, требующего человеческих жертвоприношений ради утверждения «самого
себя», но и предтеча последнего, апокалипсического «зверя» человеческой
истории, когда в «превращенной форме» антихриста будет явлен уже сам мессия.
Александр
Буздалов
_______________________________________
1 св. Иоанн
Кронштадтский. Об истинных причинах современных нестроений / Святой праведный
Иоанн Кронштадтский. Живое слово мудрости духовной. Московское Подворье
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2003. С.33.
2 Казин А. Парадокс
Февраля, или как масоны России помогли.
3 Там же.

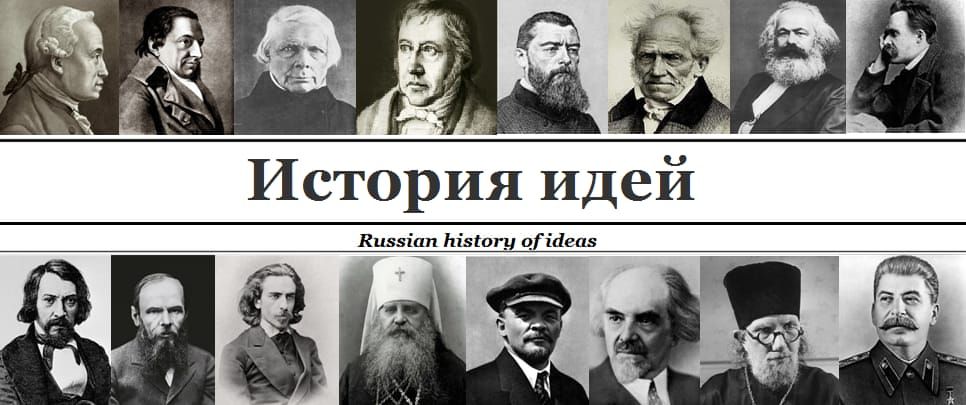




Комментарии
У этой статьи нет комментариев