«По чину Мелхиседека…»
Дата создания:

1. Предисловие
«Христос – это единственное лекарство для спасения и исцеления человека» (митр. Иерофей Влахос. Православная духовность. Цит. по изд.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра (СТСЛ), 2009. – 135 с.).
В поэтике это называется метафорический разнобой: лекарство нужно для исцеления, а для спасения «лекарство» – это неточное сравнение, неподходящее слово. Ибо мертвого, или погибшего, уже поздно лечить. Как мы уже знаем, обусловлена такая нестыковка (т.е. богословское недомыслие) тем, что «православная духовность» исторически складывается из двух различных традиций: собственно христианской (библейской и евангельской) и эллинистической (платонической и стоической). Сотериологическая концепция Христианства – это «воскрешение мертвых», а эллинизма – «уврачевание болящих». Первая традиция говорит о спасении человека, ибо исходит из понятия «смерти», или «погибели» всего человека, т.е. духовной и физической. «…Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф 8:22). «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1Ин 5:12). «…и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф 2:5-6). Вторая традиция, отрицая смертность души, оперирует принципиально иным термином «повреждения природы», или ее «духовной болезни», т.е. отвергает ту непоправимую степень «повреждения» (а именно, смерть), о которой говорит Христианство. Характерно, что даже когда ближайший ученик Христа св. ап. Иоанн различает «грех к смерти» и «грех не к смерти», он говорит о нужде согрешающего «несмертным грехом» в самой божественной жизни, а не различает обратимые и необратимые духовные болезни. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и [Бог] даст ему жизнь, [то есть] согрешающему [грехом] не к смерти» (1Ин 5:16). В то время как в более «оптимистической» традиции «православной духовности» следовало бы сказать: «да даст ему Бог лекарство» для «уврачевания немощи», ибо всякий недуг души здесь подлежит необходимому «исцелению» и неизбежному «восстановлению» по причине ее природного бессмертия.
«…нет ничего неисцелимого для Творца. Он сотворил все для бытия; но созданное для бытия не может не быть. Поэтому твари, конечно, подвергаются изменению и разнообразию, так что, смотря по заслугам, находятся или в лучшем, или в худшем состоянии: но субстанциальной погибели не может подвергнуться то, что сотворено Богом для бытия и пребывания» (Ориген. О началах. 3.6.5 / Творения Оригена, учителя александрийского, в русском переводе. Выпуск I. Издание Казанской Духовной Академии. Казань, типо-литография Императорского Университета, 1899. С.297).
Всего в «Началах» Оригена слово «здоровье» (души) и производные от него употребляется 4 раза, «лекарство» – 5 раз, «раны» (греха) – 5 раз, «немощь» – 11 раз, «исцеление» – 20 раз, «болезнь» – 23 раза, «врачевание» – 27 раз… Что арифметически доказывает, кто является родоначальником этой богословской традиции. Поэтому когда преп. Максим Исповедник дает такое определение:
«смерть является повреждением творения (φθορὰ γενέσεως)» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXXVIII (V,34). Цит. по изд.: Прп. Максим Исповедник. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы). М., Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006 – 464 с.),
он занимается именно смешением Христианства с эллинизмом, или Православия с оригенизмом, что априори не может быть конструктивным с догматической точки зрения.
То же самое касается упомянутого в «Началах» понятия «заслуги», представляющего собой в оригенизме не что иное, как прямую противоположность апостольского понятия «предопределение», потому что персональные заслуги сущих исключают предопределение их спасения как заслугу Одного только Создателя; и наоборот, божественное предопределение избранных ко спасению исключает их собственные заслуги, потому что именно их оно и предопределяет. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф 2:8-10). Поскольку язычество не знает другого бога, кроме Природы, постольку богословский неоплатонизм боготворит все «природное», особенно – человеческую «природу» и «личность», ее «заслуги» и «достоинства».
По этой причине «православная» антропология (а значит, и сотериология) всегда двусмысленна, неопределенна, противоречива, ей хронически не хватает структурированности и однозначности, потому что она доктринально неоднородна и тщетно пытается соединить несоединимое. Не будет преувеличением сказать, что с течением исторического времени они стала даже лукавой, потому что вместо того, чтобы своевременно исправить свой концептуальный изъян (хронический оригенизм, богословский вирус неоплатонизма), она, наоборот, стала представлять его своим высшим достоинством, «диалектическим» признаком небесной «премудрости», интеллектуальной элитарности, клеймя западную православную мысль (т.е. августианство) «схоластичностью» как якобы ограниченностью, излишней «рациональностью». В действительности же византийская «диалектика» и «патриотический синтез» говорят просто об идеологическом синкретизме как научной некорректности, приводящей к систематическому искажению Священного Писания, смешиванию его божественных истин с инородной им религиозной софистикой поздней античности, как родниковой воды с болотной жижей. Подсознательно чувствуя эту свою ущербность, восточная богословская наука не раз прибегала к западной схоластической методологии и строгости формы, чтобы выбраться из месива своей несистематичности, незавершенности и плюрализма мнений.
В свой черед, августианство как западная форма Православия не избежало характерной для оригенизма ошибки субординационизма в триадологии, что выразилось в концепции «филиокве». Т.е. если в учении о человеке и его спасении Августин в значительной степени преодолел пагубное наследие неоплатонической философии, приведя эти аспекты догматической науки в соответствие Священному Писанию, то в триадологии эта работа не была доведена им до логического конца, в отличие от восточных богословских школ. Поэтому насущной исторической задачей, стоящей перед ортодоксальным богословием, является соединение западно-ортодоксальной (августианской) антропологии и сотериологии с восточно-ортодоксальной христологией и триадологией, что и будет истинным «патристическим синтезом», совершенным Православием как верой Апостолов, или тем, что мы называем «хард-ортодоксией» как тяжелой артиллерией истинно-христианской мысли в борьбе с ересями.
Следую этому принципу в экзегезе наиболее трудных мест Ветхого и Нового Завета, мы уже предложили несколько, на первый взгляд, неожиданных прочтений, в которых применение данного метода истолкования позволило сложить богословский пазл из лучших образцов церковной мысли воедино, т.е. проверяя, исправляя и взаимно дополняя Августина – Паламой и Максима – Иеронимом (а не антиохийцев – Плотином и каппадокийцев – Оригеном, как это делалось раньше), получить в итоге картину, адекватную апостольскому учению о природе человека и тайне его спасения. В данной работе мы намерены еще раз продемонстрировать высокую степень эффективности данного метода на примере толкования загадочной личности ветхозаветного Мелхиседека (Быт 14-17-20). Значительно облегчает задачу, стоящую перед нами, то, что существует краткое толкование этого фрагмента «Книги Бытия» у пророка Давида (Пс 109:4-6) и развернутое апостольское толкование в «Послании к Евреям» (Евр 5:1-7:28). Так что от нас требуется только сравнить последнее с толкованиями представителей святоотеческого оригенизма и выявить содержащиеся в них отклонения от того, что по этому поводу говорится в Священном Писании, еще раз указав на историко-идеологические причины этих разночтений. Которые заключаются в том, что как, по слову еп. Маркела Анкирского († 374 г.) «излишняя увлеченность греч. философией отрицательно влияло на понимание Оригеном Свящ. Писания» (Заболотный Е.А. Оригенические споры. Православная энциклопедия. Т.53. С.261-268), так «излишняя увлеченность философией» уже самого Оригена негативно сказалась на толковании Священного Писания самыми авторитетными представителями этой традиции.
2. Толкование Пелагия и преп. Иоанна Кассиана
«Когда он [Авраам] возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что [ныне] долина царская; и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего, — и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из всего» (Быт 14:17-20). Как не трудно догадаться, основной богословский вопрос в феномене Мелхиседека заключается в том, каким образом он становится исторически возможным до заключения Богом Завета с Авраамом и Моисеем. Т.е. какова природа его первосвященства, явленного до основания Ветхозаветной Церкви и ее священства. Ответ оригенизма и пелагианства как основных форм «христианского неоплатонизма» очевиден: святость личности и служения Мелхиседека возможна из самой природы человеческой души, способной так строго поставить себя в нравственном отношении в своей жизни, что «стяжать» благодать Святого Духа независимо от Христа, как буддийский монахи добывают «прану» прямо из воздуха, а языческие мудрецы «качают» мудрость прямо из «недр» человеческой природы и т.д. по Платону и Аристотелю, Плотину и Проклу, Николаю Кузанскому и Леонардо да Винчи, Канту и Гегелю, Николаю Бердяеву и Герману Гессе, Федору Достоевскому и Роману Вершилло… Т.е. случай Мелхиседека – это один из главных козырей для оригенизма и пелагианства, поэтому они не могли пройти мимо такого подтверждения своей теории «естественной благодати», или «природного богоподобия», или «сродства души Богу», как атавизмов неоплатонического гнозиса. «Особенно же блистательно проявилось величие человеческой природы в ветхозаветных праведниках. В противоположность утверждению Августина, что собственными силами человек может делать только зло и что все, совершаемое нами добро, совершается благодатию Христовою чрез нас, пелагиане указывали на ветхозаветных праведников, которые, благодаря природным духовным силам, без благодати Христовой, достигли евангельского совершенства. В Послании к Димитриаде Пелагий подробно перечисляет ветхозаветных праведников и их добродетели в доказательство совершенства человеческой природы.
«…Мелхиседек называется священником Божиим; заслугу его ты легко можешь понять из того, что <…> благословив Авраама, главу патриархов, который по обрезанию стал отцом иудеев, a по вере – язычников, Мелхиседек яснейше показал образ Того, Кто чрез веру в Него дарует благословение иудеям и язычникам» (свящ. Александр Кремлевский. История пелагианства и пелагианская доктрина. Казань, лито-типография Казанского университета, 1898. С. 179-180).
Не преминул «зайти с козырей» этой же «естественной благодати» и преп. Иоанн Кассиан, причем без какого-либо влияния со стороны пелагианства, потому что хотя Кассиан и называется Римлянином, принципы его богословия сформировались в его продолжительный египетский период, т.е. как раз в евагрианской традиции умеренного (или «православного») оригенизма.
«Поелику всякое знание закона от начала творения внушено было человеку, то этим ясно доказывается, что все святые, как мы знаем, соблюдали заповеди закона без чтения письма, прежде закона, даже прежде потопа <…> [Иначе] откуда научен был Авраам отказаться от добычи врагов, которая ему давалась как воздаяние за его труд? Или как отдал десятую часть священнику Мелхиседеку, которая предписывалась законом Моисеевым (Быт 14:18–20)? Как тот же Авраам и Лот покорно исполняли долг человеколюбия и омывали ноги прохожим и странникам, когда еще не было евангельской заповеди (Быт 18:4, 19:2)? Как Иов приобрел такую набожность в вере, такую чистоту целомудрия, такое знание смирения, кротости, милосердия, человеколюбия, какого не видим даже и у тех, которые в памяти содержат Евангелие?» (преп. Иоанн Кассиан. Восьмое собеседование аввы Серена (второе). О начальствах и властях. Гл.23 / с латинского / Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Репринт. изд. Сергиев Посад, Свято-Троиц. Сергиева лавра, РФМ, 1993. С.319-320).
В действительности же (т.е. согласно Священному Писанию в толковании Апостола), заповеди Закона Моисея были рассчитаны на первозданную человеческую природу, а заповеди Нового Завета – на новую природу, в которую «воипостазирована» Христова благодать. А поскольку ветхая природа подзаконных была падшей и греховной, а не первозданной, то ими не мог исполняться даже Закон Моисея. «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти» (Рим 8:3). Кассиановский же «авва» с символическим языческим именем Серен как типичный евагрианец говорит о том, что ветхозаветные праведники «силою воли» достигали даже христианской меры святости, и это – типичное пелагианство, которому нет никаких оправданий, потому что это напрямую отрицает учение Апостола. Поэтому все святоотеческие толкования, в которых присутствуют подобные поползновения на гуманизм (т.е. неоязыческое поклонение Человеческой Природе), следует отвергать как богословски некорректные и вероучительно вредные. Только так можно выбраться из трясины «православного оригенизма» и «ортодоксального пелагианства».
Прежде всего, мы видим в приведенном фрагменте «Книги Бытия», что Царь Салимский Мелхиседек был политическим союзником той коалиции из четырех царей («И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы, царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор» (Быт 14:8)), которая потерпела поражение в вооруженном столкновении с другой коалицией из пяти языческих царств. Аврам же вызвался взять реванш за это поражение «сборной Содома и Гоморры», поскольку в числе прочих проигравших в плену оказался его сродник Лот со своими присными. Т.е. духовное содержание жизни того политического объединения, на стороне которого выступил будущий патриарх Авраам и к которому принадлежали праведный Лот и сам первосвященник Всевышнего Бога Мелхиседек, было, мягко говоря, далеким от праведности. «Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом» (Быт 13:12-13). Иными словами, с духовно-нравственной точки зрения никакой разницы между воющими сторонами не было: это был заурядный «государственный» разбой, которым промышляли жители той дикой местности и того лихого времени. С таким же успехом Аврам, Лот и Мелхиседек могли оказаться в противоположном лагере, или часть из этих девяти бандформирований перейти на сторону противников в виду каких-то «политических выгод» и т.д. И тем не менее ничто из этой обыденной «злобы и весьма-грешности пред Богом» ближайшего окружения не помешало «Мелхиседеку быть священником Бога Всевышнего», а Авраму и Лоту «обрести праведность» перед Ним. «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт 15:6). Потому доверие Богу и вменилось Авраму в праведность, что сам по себе он не был праведным и в принципе не мог им быть, как и местные аборигены, происходя от «злого и весьма грешного пред Богом» падшего Адама.
Соответственно, здесь же лежит и ответ на вопрос, каким образом, или за какие-такие заслуги царь Мелхиседек удостоился быть священником Всесвятой Троицы и благословлять будущего отца веры Авраама. Т.е. получить это исключительное положение в истории человеческого рода Мелхиседек не мог никак иначе, кроме как путем того же божественного «вменения» ему в святость чего-то, что не было святостью само по себе. Поскольку нужды «домостроительства Божия» (Кол 1:25), т.е. исторического возведения божественной благодатью Церкви ради спасения «избранных во Христе прежде создания мира» (Еф 1:4), требовали заложения фундамента, т.е. положения начала этого «строительства», постольку никто кроме Самого Господа Бога не мог этого начала положить, потому что в самой человеческой природе, падшей в праотце, не осталось никаких предпосылок для праведности и спасения, поэтому получить ее можно было только путем Божьей милости и дара, и никак иначе. Поэтому и то, что «Аврам поверил Господу» и то, что Мелхиседек (Лот, Ной и т.д. до Авеля) сделал подобное прежде Аврама, тоже было промыслительно даровано им Богом по благодати, а не произведено их собственной духовной жизнью. Потому что если о тех потомках Авраама, о которых Бог благовестил ему («И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» (Быт 15:5)), если об этих потомках Авраама сказано Апостолом: «как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» (Еф 1:19), то и в самом отце этой святой веры она не могла иметь другой причины и природы, кроме как «по действию» того же «могущества Его и державной силы в нас», весьма злых и грешных самих по себе. Т.е. если вычесть из Мелхиседека, Лота и Авраама эту «вмененную им в праведность» веру в Всевышнего и Всесильного Бога, то они стали бы такими же кандидатами на истребление небесным огнем, как и нечестивые царства соседних Содомы и Гоморры, в политическом союзе с которыми Бог судил им жить на земле, как и будущий Израиль – с египтянами.
Иными словами, явление Мелхиседека в чине первосвященника Бога, благословляющего Аврама (как еще ветхого человека) и выносящему ему дары хлеба и вина, как и все остальное в ветхозаветной истории, должно было служить провозвестием и прообразом той тайны спасения человека, которая осуществляется уже в Новом Завете. Мелхиседек как прообраз Первосвященника Христа благословляет Аврама как отца всех верующих и приносит ему прообразы евхаристических даров как обетование Тела и Крови Спасителя – Церкви. В этом плане отношение Мелхиседека и Аврама следует сравнивать не с отношением, скажем, преп. Сергия Радонежского, благословляющего Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, но с отношением Христа и Иоанна Предтечи, где Первый является духовной причиной второго, хотя хронологически второй предшествует Ему и должен провести над Пришедшим обряд ветхозаветного крещения, дабы «исполнить всякую правду» (Мф 3:15). Как Иоанн Креститель – это последний человек Ветхого Завета, через таинство покаяния приводящий Израиль к Искупителю его грехов, так Авраам – это первый человек Ветхого Завета, которому тоже для спасения был нужен кто-то «больший» его, чтобы он не возомнил о себе, чего-то не соответствующего действительности (в частности, «заслуженной праведности» вместо «вмененной»). Поэтому Бог через Мелхиседека заранее поведал Авраму, что все, что он получил и получит (чудесную победу над превосходящим его силою противником и все остальные свои успехи в жизни, включая духовные), произошло и произойдет исключительно путем «благословения от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли» (Быт 14:9). Царь и первосвященник Мелхиседек как непосредственный ставленник Бога был необходимым как прообраз Самого Христа, для демонстрации божественного всемогущества, способного явить Свою всепобеждающую силу и верховное владычество посреди любой степени человеческого зла и греха, и не для чего больше. «Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей; совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной» (Пс 109:4-6). Т.е. не Аврам «своей праведностью» и не Мелхиседек «своими молитвами» за полководца Аврама «поразили царей» и «совершили суд над народами», но только Владыка неба и земли, Которому Одному подобает «всякая слава, честь и поклонение». «И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском» (Рим 11:12).
В словах же пророка Давида (Пс 8:5-6), на которые ссылается Апостол, «не много Ты умалил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его» (Евр 2:7), содержится указание на то, что первозданный человек был ниже ангелов по достоинству. Соответственно, противоположное мнение в патристике (т.е. оригеническое учение о «достоинстве» души Бога по своей природе) – это очередное доказательство нехристианского, т.е. эллинистического происхождения его антропологии.
«Умное и словесное естество души, – говорит Палама, – одно только обладает и умом, и словом, и животворящим духом. Только оно одно больше, чем Ангелы, было создано Богом по Его образу. И этого изменить нельзя, хотя бы даже оно и не знало своего достоинства, и не чувствовало, и не действовало достойно Создавшего его по Своему образу» (архим. Киприан (Керн). Образ и подобие Божие (человек и ангелы). Из книги «Восхождение к Фаворскому свету». Изд. Сретенского монастыря, 2006. – Православие.ру).
Что означает, что превышенебесного достоинства души «изменить нельзя» даже первородному греху… Очевидно, что свт. Григорий Палама говорит здесь нечто противоположное тому, о чем говорят Пророк и Апостол, через которых говорит Сам Бог. Потому что через Паламу в данном случае говорит «православный оригенизм» Александрии, Каппадокии и Антиохии. Отсюда – такая значительная разница в учении о человеческой природе.
В словах Апостола «ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово» (Евр 2:16), содержится указание на то, что Христос является новым Адамом только для верующих, т.е. для Церкви, а не для всего ветхого человечества, которого праотцом вовеки веков остается первый Адам, поэтому они погибают «в нем» точно так же, как Церковь как «новая тварь» (2 Кор 5:17) спасается в Иисусе Христе как новом Адаме. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1Ин 5:18-19). Что означает, что праведный не грешит благодатью Бога, а не силою своей воли, потому что сама воля его стала праведный (твердой в стоянии в добре) путем «рождения от Бога», а не, наоборот, «заслужила» это «рождение» праведным произволением. Принадлежащий «миру сему» ветхий человек не может ни грешить, а «привитый» (Рим 11:23) к естеству нового Адама, наоборот, не может грешить, хранимый благодатью от самого хотения зла. Что опровергает сотериологию и эсхатологию не только самого Оригена, но и все те формы «православного оригенизма и пелагианства», где это различие природ, природной воли и вечных судеб ветхого и нового человечества проведено недостаточно последовательно и однозначно.
Еще раз обратим внимание на это место «Послания Евреям», ибо оно имеет важнейшее значение для догматического учения о человеке и его спасении. Слова «ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово» (Евр 2:16), означают также и то, что Христос «восприемлет не семя Адамово, но семя Авраамово». Вочеловечившийся Сын Божий у Апостола является родоначальником нового человечества, а не «восстановителем», или «реставратором» ветхого, как это считается в «православном оригенизме». Новая природа без греха – это уже другая природа, а не «исцеленная» ветхая (с «божественным достоинством» которой якобы ничего не происходит и во грехе). «Говоря “новый”, показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению» (Рим 8:13). Об этом же говорят слова о том, что подобно Мелхиседеку, Иисус был «без родословия» (Евр 7:3), потому что благодатное человечество Христа является причиной, а не следствием человечества ветхозаветных праведников. Где анахронизм служит только лишним подтверждением совершенной сверхъестественности этого исторического феномена. Они праведны одной только Его праведностью, а не Его праведность стала возможной, благодаря положенного ими начала праведности. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни» (Рим 5:17-18). Поэтому Господь Иисус Христос – единственный источник святости ветхозаветных праведников, а не «развиватель» и «доводитель до совершенства» их «заслуг свободной воли». Потому что мера праведности каждого праведника на земле от сотворения мира – это мера благодати Христовой.
По этой же причине Евангелист Матфей ведет родословную Христа от Авраама, а не от Адама. Тогда как ведущий родословную от Адама Евангелист Лука делает ремарку «Иисус… был, как думали, Сын Иосифов, Илиев, Матфатов… Адамов» (Лк 3:23-24), тем самым, от обратного указывая на реальную родословную, и это родословная у Матфея и Павла, где Христос – это новый Адам только праведного в Себе человечества Церкви, а не всего ветхого человечества, каковым остается падший Адам. Иисус был Сын Божий и по Своему божеству, и по Своему человечеству. Поэтому и новое человечество в Нем создано «по образу и подобию» своего Небесного Отца (Быт 5:1; Ин 3:6; 1Ин 3:9; 2Кор 5:17), а не рождено «по образу и подобию» своего грешного отца Адама, как ветхое человечество мира сего (Быт 5:3).
3. Толкование свт. Иоанна Златоуста
Как Христос – единственный в Своем роде Первосвященник, так и Его прообраз Мелхиседек благодатью Божией был только в одном экземпляре. Поэтому нельзя говорить, что Мелхиседек был обыкновенным человеком в том смысле, что любой другой мог бы им cтать, приложив аналогичное духовное старание и ревность.
«…он был по образу и подобию Божию, как и мы» (свт. Иоанн Златоуст. Беседа о Мелхиседеке / Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1900. Т. 6, кн. 2. С.560).
Если бы под «мы» здесь имелись в виду христиане, то это было верным высказыванием, т.е. соответствующим учению Апостола о «новом творении во Христе» («Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое» (2Кор 5:17)). Потому что никак иначе, кроме как во Христе, Мелхиседек (как и любой другой человек той эпохи) не мог обладать «вмененной» святостью. Но, как видно из контекста, Мелхиседек, по толкованию Златоуста, был «по образу и подобию Божию, как и мы» в значении «как и все люди», что, как всегда, предполагает отсутствие влияния первородного греха на человеческую природу. Что первозданный человек, что падший человек, что новый человек во Христе – все это, дескать, один и тот же человек «по образу и подобию Божию». И поскольку такое ложное мнение осуждено Церковью (2-е правило Карфагенского собора 418 г.), библейский факт пребывания Мелхиседека «по образу и подобию» Христа, а именно, в чине Первосвященника Бога Всевышнего, до учреждения Церкви на земле, следует считать совершенно сверхъестественным для того времени, т.е. для ветхого состояния человеческой природы. Чтобы быть прообразом Христа как Главы Церкви, священство Мелхиседека не должно было иметь никаких других причин, кроме непосредственно божественных, или «не от мира сего». Если священство передается по наследству (как в Ветхозаветной Церкви) или по апостольскому преемству через рукоположение (как в Новозаветной Церкви), то самое первое звено в этой причинно-следственной цепи не может быть поставлено и уполномочено на свое служение никем, кроме Самого Бога. Поэтому как Христос Своей властью Первопричины всего сущего поставил Петра Первоверховным апостолом, так Он же, без Которого «ничто не начало быть [из того], что начало быть» (Ин 1:3), «по домостроительству благодати Божией» (Еф 3:2) избрал и поставил Мелхиседека на его особое служение Себе, и только поэтому стало возможным, что тот был «по образу и подобию Божию, как и мы» в Церкви. А значит, другой человек мог оказаться на его месте только таким же сверхъестественным образом, а не естественным ходом «заслуг», как это получается в той богословской традиции, к которой принадлежит толкование Златоуста:
«мы говорим, что он человек подобострастный нам» (свт. Иоанн Златоуст. Беседа о Мелхиседеке. Цит. изд. С.560).
Но если Мелхиседек был человек «подобострастный», как и все, т.е. подобен страстному по грехопадении Адаму (что, несомненно, так и есть), то как он вдруг сделался подобным Христу-Богу и сумел пророчествовать о Нем самим своим существованием?
«Мелхиседек был муж праведный, и поистине носил образ Христа. Он, движимый пророческим духом, проразумел Жертву, имеющую быть принесенною за народы, и почтил Бога хлебом и вином, подражая грядущему Христу» (свт. Иоанн Златоуст. Беседа о Мелхиседеке. Цит. изд.).
Неужели из «подобострастного» можно стать «богоподобным», благодаря своей персональной праведности, нравственной исключительности и «упорному труду над собой»? Вопрос риторический. Поэтому правильным может быть только следующее толкование: будучи потомком ветхого Адама, Мелхиседек еще не мог быть «по подобию Божию» на постоянной основе, потому что по своей ветхой природе он был, как и все, грешным человеком, движимым страстями. Но в своем первосвященстве, ради грядущего в мир Спасителя и «по домостроительству» Его благодати, Мелхиседек был «движимым» Святым Духом, поэтому во время этих сверхъестественных озарений он действительно становился «по подобию Божию», получая тот «залог Духа» (2 Кор 5:5), т.е. тот начаток Христовой благодати, которая сделает его уже непреходяще «по подобию Божию» во всеобщем воскресении. Что и делает Мелхиседека столь же уникальным для своего времени и места (а не таким же, «как и все»), как Авраам и другие ветхозаветные и доветхозаветные праведники, патриархи и пророки, «ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим 8:14). Одна только Божия благодать делала Мелхиседека «царем правды», а не такая же, «как и у всех», «богообразная и богооподобная» природа. Точно так же, как Петра сделала Камнем веры благодать его первоверховного апостольства, а Иоанна Предтечу – наибольшим «из рожденных женами» (Мф 11:11) – его бóльшая, чем у других, благодать, а не «масштаб их личности». Вернее – сам масштаб их личностей создан одной только Христовой благодатью, а не персональными «заслугами» и «соработничеством» (святой по естеству души с Богом), как мнили оригенизм и пелагианство.
На это, может быть, нам возразят указанием на то, что сам Апостол говорит о «помощи благодати» (Евр 4:16). Только это будет очередным примером некорректного богословского прочтения через призму оригенического волюнтаризма. Потому что у Апостола выражение «помощи благодати» находится в контексте понятий «немощи» (Евр 4:15) и «милости» (Евр 4:16), а не «силы» и «заслуги», как в «православном оригенизме», потому что милость исключает заслугу. Т.е. «помощь благодати» у Апостола означает все ту же евангельскую «милость к погибшему», а не платоническое сотрудничество «подобного с Подобным», или «синергию» Врача и сознательного пациента, как оптимистически толкует Ориген и иже с ним богословские гуманисты.
4. Толкование преп. Максима Исповедника
Самое развернутое патристическое толкование феномена Мелхиседека содержится у преп. Максима Исповедника в сочинении под названием «О различных недоумениях у Григория Богослова, к Иоанну, Архиепископу Кизическому», и оно же оказывается самым оригеническим из всех, делая очевидным то, что могло остаться незамеченным у предшественников, у великого каппадокийца Григория, в частности.
Общее для оригенической богословской традиции релятивистское представление о первородном грехе сказывается у Максима тем, что он толкует Мелхиседека как достигшего совершенного обожения, что, разумеется, было невозможно до Боговоплощения. Не говоря уже о самой оригенической концепции «заслуженного», или «достойного» обожения, которой Максим строго придерживается.
«”Без отца” же и “без матере, без причта рода, ниже начала дней, ни конца животу имеющим”, изображается великий Мелхиседек, как нам уяснило это истинное слово о нем богоносных мужей, не по тварной и из небытия [происшедшей] природе, по которой он и начал быть, и окончил, но по божественной и нетварной благодати, вечно сущей превыше всякой природы и всякого времени, [происходящей] от вечно сущего Бога, по которой одной только совершенно познается весь он сознательно родившимся» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXV (V,21). Цит. изд.).
Если новый человек во Христе, «рожденный от Духа» (Ин 3:6) в Таинстве крещения и причающийся обоженного Тела и Крови нового Адама, по слову Апостола, имеет только «залог Духа» (2Кор 1:22), то как представитель ветхого человечества Мелхиседек мог иметь всю полноту действия благодати? Здесь-то и дает о себя знать неоплатоническая концепция «естественного теозиса», или «природного богоподобия», или «сродства души Богу». Как и великие каппадокийцы, Максим расценивает природные добродетели человека как нечто подобное божественной благодати, чем ее можно «зарабатывать», или становиться ее «достойным».
«Также и всех святых [житие] каждый из нас может, если пожелает, перенести в себя, духовно образуя себя по каждому из них, <…> украшаясь посредством благородной деятельности надлежащими образами (τρόποις) добродетели, и научаясь, что естественный закон тождественен писаному, когда посредством символов он мудро разнообразится на практике, а писаный тождественен естественному, когда в достойных становится он по [их] добродетели и ведению посредством разума и созерцания единовидным и простым, и свободным от символов, подобно самим тем [жившим] в законе святым, которые, когда Дух, словно покрывало, отъял букву явились духовно содержащими естественный закон» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXXIII (V,29). Цит. изд.).
Если у Апостола тождество «писанного» Закона Моисея и «естественного» закона человеческой природы (Рим 2:13-15) означает бессилие их обоих спасти ветхого человека, т.е. привести его, падшего и погибшего в первородном грехе, к Богу, то в христианско-неоплатонической традиции каппадокийского оригенизма это тождество, наоборот, знаменует собой возможность любого эмпирического человека «становиться достойным» Бога, т.е. на основании их собственной добродетели как «заслуги» свободой воли. Что, несомненно, вырвано из контекста и превратно истолковано, искажая собственное значение слов Апостола прочтением их посредством неоплатонической философии. Потому что в апостольском Христианстве таким «достоинством» и «заслугой» для ветхого человечества является только Жертва Агнца Божия, искупающего грех мира. В оригенической же традиции христианского неоплатонизма вместе с догматом первородного греха в богословски-зачаточном состоянии находится и неразрывно связанный с ним догмат Искупления. Поэтому обожения здесь может достигать любой человек в любое историческое время, обходясь одними внутренними ресурсами своего «богообразного» и «богоподобного» естества. Ср.: «Филон Александрийский называет священство М<елхиседека>. “самопознаваемым и самообучающим”, а пожертвованная ему Авраамом 10-я часть добычи означает лучшие чувства, слова и мысли, приносимые в дар Богу (Philo. De cong. erud. 99). М. как царь Салима оказывается “царем мира” и аллегорически служит образом “царственного ума” (βασιλεὺς νοῦς), к-рый (в отличие от тиранического склада сознания) обращается к душе и чувствам не насильственно, но через совет, терпеливо склоняя их к проведению жизни в радости и наполняя силой жизни в славословии Бога» (Антыпко М.И. Мелхиседек. Православная энциклопедия.Т.44. С.620-626). Традицию этого александрийского «самовоспитания» (если не сказать «самоспасения») и продолжает Максим вслед за великими каппадокийцами.
«Единственным же таковым его представляет Писание, вероятно, как первого ставшего по добродетели превыше материи и вида (что может изображаться словами: “без отца и без матере, и без причта рода»), и ведением прешедшего все, что под временем и веком» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXV (V,21). Цит. изд.).
В результате Мелхиседек в толковании Максима оказывается «образом и подобием» не столько Иисуса Христа, сколько Гаутамы Будды: первым «достигшим просветления», раскрывшим «лотос» своего внутреннего «логоса», «сознательно родившимся [от Духа]», потому что самой этой «сознательности» в неоплатонизме достаточно, чтобы «рождаться от Бога» любому желающему во всякое время живота своего.
«...непознаваемо, со всяческим отвлечением ума от сущих облекшегося в Самого Бога, и всего всем [Богом] окачествавшегося и переокачествовавшегося (что может подразумеваться словами: “уподоблен Сыну Божию пребывает священник выну”)» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXV (V,21). Цит. изд.).
Словами «подобно Сыну Божию пребывает священник вовек» в Писании обозначается лишь не принадлежность Мелхиседека к священническому роду Аарона ввиду особого рода служения, к которому он был призван, и ничего больше. Единственная историческая задача Мелхиседека – это служить прообразом Христа как Первосвященника. Только в этом заключается особый «чин Мелхиседека». Поэтому ничего, кроме этого, Писания о нем не сообщает. Ср.: «блж. Иероним понимает слова “без отца, без матери” (Евр 7. 3) не буквально, а как указание на то, что о М. нигде больше в Писании ничего не сказано» (Антыпко М.И. Мелхиседек. Православная энциклопедия.Т.44. С.620-626). И если у Иеронима это означает библейский реализм, то у Максима – оригенический (или неоплатонический) символизм, аллегорически изображающий божественную степень «развития личности».
«Не думай же, что кто-либо обделен этой благодатью, раз об одном лишь великом Мелхиседеке говорит слово [Божие], что она есть у него. Ибо Бог всем равно вложил по естеству возможность (δύναμιν) ко спасению, дабы каждый желающий мог усвоить себе божественную благодать, и хотящему стать Мелхиседеком и Авраамом, и Моисеем и, вообще, всех святых перенести в себя — не переменой имен и мест, но подражанием тропосам [их добродетелей] и жительству — не было бы препятствий» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXVI (V,22). Цит. изд.).
Здесь хорошо видно, что преп. Максим вслед за великими каппадокийцами не делает различия между тем, что «вложено по естеству» в первозданную природу, и тем, что осталось от этого после первородного греха. «Возможность спасения» от этого не страдает. Что противоречит тому то, что говорят все Апостолы в своих Посланиях, и что сам Максим исповедует в своей христологии, характеризуя последствия первородного греха. Поэтому христология Максима соответствует апостольской, а его антропология и сотериология – нет, будучи искажены ложными идеями неоплатонизма.
Если Бог сделал человечество Христа «совершенным через страдания» (Евр 2:10), т.е. «совлек» с воспринятого Им естества «неукоризненные страсти» (в терминах Максима), то это не значит, что и с ветхого человека они совлекаются аналогичным способом «усовершенствования через» скорби и подвиги. Страдания Христа, как правильно толкует Максим, были необходимы для Искупления грехов преступников Закона, а не для Его собственного «улучшения», поскольку смертность человеческого естества была воспринята воплотившимся Сыном Божиим добровольно, а не по необходимости закона природы, как всеми потомками падшего Адама. Поэтому в их человечестве эти «несовершенства» природы не преодолеваются через личные скорби и добровольное согласие на них, потому что только страдания Агнца Божия являются искупительными. В то время как именно к такому ложному выводу приводила неоплатоническая теория «достоинства» спасения «заслуженными» праведниками, которую патристика унаследовала от Филона, Климента, Оригена, Евагрия и других лжеучителей александрийской школы.
«…подобает ему зваться, <…> по тому, чем он [сам] себя разумно претворил – по добродетели, говорю, и ведению именоваться. Ибо тем, у кого воля (γνώμη) доблестно посредством добродетели преодолела весьма труднопреоборимый закон естества, и движение ума посредством ведения нескверно воспаряет над свойствами времени и века, сим справедливо будет называться не по признакам свойств оставленного ими, но скорее по великолепию воспринятого, по которому и в котором только они и суть, и познаются <…> то прилично ему <…> именоваться по божественным и блаженным признакам, по образу коих он себя претворил» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXV (V, 21). Цит. изд.).
Т.е. Мелхиседек у Максима был не уже «прообразом» Христа, но совершил подобное тому, что и Христос с «труднопреоборимым законом» падшего естества, «доблестно преодолев» и «претворив» его «посредством добродетели». Что, конечно же, не имеет ничего общего с тем, что говорит Апостол. «Так Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; как и в другом [месте] говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека» (Евр 5:5-10). В «православном оригенизме» же получается, что Мелхиседек первым в истории человечества как раз «сам» («сознательно» и «достойно») «присвоил себе славу» первосвященства и богосыновства.
«…сознательно добродетель предпочел божественный Мелхиседек естеству и всему тому, что по естеству, по причине доброго выбора присущего нам достоинства, и всякое время и век превзошел ведением» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXV (V, 21). Цит. изд.).
Поскольку соблазн понять сказанное именно так (т.е. прямо противоположно тому, о чем говорит Писание), весьма велик для человеческой натуры, Апостол здесь же делает следующую ремарку: «О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, [судя] по времени, вам надлежало [уже] быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия» (Евр 5:11-12). Т.е. Апостол как бы предвидит, что слова о Мелхиседеке как прообразе Христа станут камнем преткновения для таких «толковников», как Ориген, Евагрий, Несторий, Пелагий и им подобные религиозные гуманисты.
«Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное» (Евр 6:13-15). Поскольку Бог поклялся Самим Собой, что Авраам получит обещанное за свое долготерпение, Авраам уже не мог ни долготерпеть, поскольку само априорное благословение Богом Авраама включало в себя благословение и на его долготерпение, и на его веру, поскольку домостроительство Церкви Божией не может зависеть от человеческой «свободы воли», т.е. от прихоти ветхого человека, переменчивого, как флюгер на ветру. Поэтому Бога поклялся Самим Собой именно в том, что Авраам будет долготерпеть и получит обещанное. Никакой иной не могла быть и первопричина избранничества Мелхиседека. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека» (Евр 6:16-20). Поэтому святая клятва Бога Самим Собой «окончила (вечный) спор» гномической воли в ветхой природе Мелхиседека и Аврама, и их воля «по домостроительству благодати» стала непреклонной в вере в Поклявшегося. И вовсе не потому, что они сами «усовершенствовали» свою ветхую волю «навыком» в добродетели и приобрели за такие «заслуги» благодать обожения. Сказал Бог «да будет свет» – и стал свет во тьме. Сказал Бог «да будет Аврам верующим» – и стал неверующий Аврам верующим Авраамом среди тьмы других неверующих грешников, ибо этим удвоением согласной в его имени вошла благодать Божия в его сердце. Потому что в апостольском Христианстве никак иначе, кроме как сверхъестественно, ни Аврам не мог стать духовным отцом верных, ни Мелхиседек – первосвященником Всевышнего Бога. Ибо на «естественности» достижения тем и другим этих высших «чинов» в духовной иерархии, эволюционном «становлении» их «великими», и стоят неоплатонические лжеучения оригенизма, несторианства и пелагианства.
«Итак, всякий, кто умертвил уды, сущия на земли (Кол 3:5) и все свое угасил мудрование плотское (Рим 8:6), и совершенно отбросил всякую связь с ним, благодаря которой разделяется [на многие предметы] любовь, которую обязаны [воздавать] одному лишь Богу, и отвергшийся всех плотских и мiрских признаков ради божественной благодати, так что может и говорить с блаженным Павлом апостолом: кто ны разлучит от любве Христовы (Рим 8:35), и проч., таковой стал без отца и без матери, и без родословия как и великий Мелхиседек, не имея более удерживаться под властью плоти и естества по причине бывшего ему единения с Духом [Божиим]» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXVII (V, 23). Цит. изд.).
Т.е. христология незаметно перешла у Максима в антропологию, что было так характерно для оригенизма. Только Христос мог «умертвить» Своей всесильной волей «страсти плоти» и «совершенно отбросить всякую связь с ними». С человеком же подобное может сделать только сверхъестественная благодать Христа, а вовсе не свободная воля «всякого, кто отвергнет» себя «ради божественной благодати». Потому что само это «отвержение себя» святыми в Христианстве является даром благодати.
«Ибо сказанное о нем: ‘без отца, без матере, без причта рода” – не иное что означает, предполагаю, как бывшее ему по крайней благодати, которой он сподобился ради добродетели, совершенное отложение естественных признаков» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXV (V, 21). Цит. изд.).
В то время как у Апостола, конечно же, наоборот: «добродетели совершенного отложения естественных признаков» Мелхиседек «сподобился» по одной только «крайней благодати», дарованной Ему Богом ради грядущего Христа, а не в награду за эту добродетель, проявленную им по собственному героическому «желанию» и «долготерпению».
Поэтому то, что Максим говорит о Христе, апостольски верно, а то, что он говорит о Мелхиседеке, оригенически ложно. Тело Христа было смертным не по закону природы (как у всех потомков ветхого Адама), но «по домостроительству спасения», «дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр 2:9). «По благодати Божией вкусить смерть» означает «по силе Божией», а не по бессилию перед смертью, как претерпевают смерть все грешные по своей природе человеки. Поэтому то, что воплотившийся Сын Божий был смертен по Своему человечеству, тоже было сверхъестественным, а не естественным, как у всего остального человечества после грехопадения прародителей. Смерть Христа-Бога была наибольшим, из совершенным Им на земле чудес. Благодатью, говорит Апостол, вочеловечивавшийся Сын Божий стал смертен, чтобы смертных человеков («семя Авраамово») сделать бессмертными, каков Он Сам по Своей благодати. Поэтому слово «совершил» в выражении «вождя спасения их совершил через страдания» (Евр 2:10) означает не усовершенствование человеческой природы Христа, но совершенное Его страданиями спасение, или то, что Бог сделал Его таким образом («вкушением смерти») Спасителем «семени Авраамова».
Стало быть, «ветхое» естество становится «новым» через смерть, а не через совершенствование. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения» (Рим 6:3-5). Смерть – это отрицание, а не восполнение несовершенного (как «восстановление поврежденного грехом»). Здесь коренное отличие антропологии и сотериологии апостольского Христианства и неоплатонического оригенизма, в том числе – в его «православных» формах. Если в Христианстве спасение как обожение сверхъестественно, то в неоплатонизме это естественно для «умной души». Как река впадает в море, так частный ум – в Мировой Ум.
«...всякий человеческий ум прельщается и, удаляясь от движения согласно природе, совершает движение вокруг страсти, чувства и чувственного <...> погрешит в отношении движения, естественно приводящего к Богу» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. VI (V,2). Цит. изд.).
Отсюда сдержанный оптимизм христианского неоплатонизма в отношении первородного греха, ибо это поправимое «погрешение» в отношении собственной природы, а не наказуемое смертью преступление в отношении Бога, как в апостольском Христианстве.
«А “уподоблен Сыну Божию пребывает священник выну” (Евр.7:3) – указывает, может быть, на непоколебимость боговиднейшей добродетели и божественного к Богу внимания, способного сохранить несмежаемым умное око» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXV (V, 21). Цит. изд.).
Что звучит как псевдо-православная реминисценция учения Оригена о различной степени «охлаждении» любви первоначальных «умов» к созерцанию Бога, где душа Мелхиседека оказывается одной из самых «горячих» в этой естественной «боговиднейшей добродетели» и поэтому оказывается способной «сохранять несмежаемым умное око» души, т.е. во всей той же оригенической парадигме персональной «заслуги» как награды за добродетель, а не в апостольской парадигме не имеющего какого бы то ни было «естественного» эквивалента божественного дара погибшему грешнику.
Конструктивно различая «укоризненные» и «неукоризненные» страсти (как личные «страсти бесчестия» и природные «страсти кары») в своей христологии, преп. Максим, по инерции каппадокийского оригенизма, неправомерно оценивает и природные страсти ветхого человека как «неукоризненные», что противоречит даже употребляемому самим Максимом апостольскому термину «страсти кары», т.к. всякая «кара», по определению, «укоризненна», «ибо возмездие за грех – смерть» (Рим 6:23). И все потому, что христианское учение о «спасении погибшего» вступает у преп. Максима в диссонанс с оригенической концепцией спасения как «исцеления», или «восстановления природного повреждения». Поэтому апостольский термин «кары» неосознанно приобретает у него неоплатоническое значение «повреждения», или «болезни», по определению, «неукоризненной». Если в ортодоксальной христологии Максима ветхое естество («страсти кары», т.е. божественного наказания первородного преступления) становится новым через смерть (Голгофу), то в его оригенической антропологии и сотериологии то же «ветхое» естество с неотъемлемыми от него «карами» становится «новым» (обоженным во Христе) через совершенствование в естественных добродетелях, посредством развития природных сил.
Даже в тех случаях, когда ветхая человеческая природа пресуществляется в новую через изменение, а не через смерть (как это происходит с душами в Таинствах и с телами тех, кого Второе Пришествие Христа застигнет при жизни), это изменение является сверхъестественным и поэтому мгновенным, а не эволюционным («апокатастическим»), как в оригенизме. «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор 15:51-52). Поэтому Писание говорит об этом изменении не как о восстановлении поврежденной природы в первозданном состоянии, но как о замене ее на другую: либо как о сотворении совершенно новой природы («И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны» (Откр 21:5)), либо как о пересадке «нового сердца» («И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное» (Иез 11-19)), что означает ту же самую смерть прежней природы как неподлежащей оригеническому «восстановлению».
Отрицая в своей антропологии духовную смерть души в первородном грехе (признавая только «повреждение» или «остывание» природного «богообразия и богоподобия»), христианскому неоплатонизму в своей сотериологии не остается ничего другого, кроме как последовательно гнуть свою линию «усовершенствования» ветхой природы в новую, т.е. обоженную благодатью, что оказывается умеренной формой оригенической концепции спасения как «восстановления», или «развития» потенциально сохраняющегося в падшем естестве «достоинства Бога».
«Из них же и божественное подобие показуется – из ведения, говорю, и добродетели, – и посредством их хранится достойными непоколебимая любовь к одному лишь Богу, ради которой даруется им боголепно подаваемое достоинство сыноположения» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXV (V, 21). Цит. изд.).
Т.о. учение, от которого даже Пелагий вынужден был публично отречься как от еретического (то, что благодать дается в награду за добродетель, а не сама производит ее в грешном человеческом естестве), у Максима безраздельно господствует как «истина богоносных мужей». В то время как у апостольских мужей, в богоносности которых сомневаться не приходится, всегда наоборот: сначала – милость, потом – заслуга; сначала – благодать, потом – добродетель; сначала – действие Духа, потом – ведение истины и т.д. «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1Кор 12:4-6).
5. Толкование богословского модерна
Итак, как мы выяснили, преодолев оригенизм в христологии, преп. Максим не сделал этого в своем учении о человеке и его спасении, поэтому здесь он очевидным образом впадает в заблуждение и проповедует нечто похожее на «почвенническое» пелагианство Достоевского, из-за которого духовный цензор того времени (по свидетельству К. Леонтьева, служившего в этом же ведомстве, только в его светском отделении), запретил отдельное издание духовных наставлений лжеоптинского «старца Зосимы» как потенциально еретических. Ср.:
«…увидит человек как нельзя яснее, что всё, решительно всё на свете в земной жизни от одного только него и зависело! Все, что случилось и об чем даже и не ведал, могло быть по примеру Христову одною лишь любовью его [человека] полно» (Достоевский Ф. Бесы. Подготовительные материалы / Достоевский Ф. Полное собрание сочинений. Цит. изд. Т. XI. С. 190).
«Да Христос и приходил затем, чтоб человечество узнало, что знания, природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не что в одной только мечте и в идеале, что и естественно и возможно. Этим и земля оправдана» (Достоевский Ф. Бесы. Подготовительные материалы / Достоевский Ф. Полное собрание сочинений. Цит. изд. Т. XI. С.212).
«Оправдание земли», т.е. человека, «достойной» жизнью самого человека, а не Кровью Святого Ангца Божия, – вот предел религиозных мечтаний всех неоплатоников, древних и новых; ересь, не искоренимая ни Посланиями Апостолов, ни анафемами Вселенских соборов, ни самим Евангелием. «…благодатию Божиею есмь то, что есмь», говорит о себе Апостол, «и благодатью Его во мне <…> я более всех их потрудился» (1 Кор 15:10). Поэтому то же самое могут повторить о себе все святые Церкви, начиная с Мелхиседека и Авраама: они тоже «есть то, что они есть», одной только «благодатию Божией», которую они «более других потрудились». Сама благодать их церковного «чина» была априори больше благодати других «чинов», поэтому каждый из них потрудился подобающе своему «чину»: Мелхиседек – «по чину Мелхиседека», а Авраама – «по чину Авраама», ибо «всё сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор 12:11). А вовсе не потому, что «это естественного и возможно» «каждому желающему», потому что само «желание» этих святых трудов «производится» Тем же Духом (Фил 2:13), «разделяющим как Ему угодно», а не путем естественного «развития природных задатков» и «заслуг свободной воли», потому что «плотской» (т.е. ветхий) человек онтологически не может даже хотеть этого, «потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим 8:7).
«Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, — ибо с ним сопряжен закон народа, — то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно [из того], что по подобию Мелхиседека восстает Священник иной, Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей» (Евр 7:11-16). Что и означает, что Царствие Божие во Христе достигается не путем естественного «развития» («усовершенствования») Ветхого закона или «нравственного» закона человеческой природы как посредством «уврачевания ран греха», но переменою самого закона, или самой человеческой природы с ветхой (приговоренной Законом к смерти за преступление его заповедей) на новую благодатную природу Христа. Необходимость «Иного Священника по чину Мелхиседека» в толковании Апостола обусловлена бессилием левитского священства привести ветхое человечество к Богу. И, наоборот, в толкованиях преп. Иоанна Кассиана, свт. Иоанна Златоуста и преп. Максима Исповедника между «царственным священством» Мелхиседека и любого другого «достойного» человека нет принципиального различия, потому что «совершенство» природы (или «логос» – в неоплатонических терминах Максима) достигается здесь посредством естественной эволюции ветхой природы в новую, «ибо Бог всем равно вложил по естеству возможность (δύναμιν) ко спасению, дабы каждый желающий мог усвоить себе божественную благодать, и хотящему стать Мелхиседеком <…> не было бы препятствий» (преп. Максим). Таким образом, там, где у Апостола «средостение вражды» (Еф 2:14) между грешным человечеством и Богом, там в толковании Исповедника ничего нет, никаких препятствий «всякому желающему».
«И вовсе никакого нет, я полагаю, препятствия предварительно боголюбезно обученному в этих законах – в естественном, говорю, и в писанном – боголепно стать выше их» (преп. Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну. XXXV (V, 31). Цит. изд.).
Ничем, кроме влияния какой-то совершенно инородной Христианству религиозно-философской традиции на преподобного противоположность его толкования апостольскому объяснить невозможно. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу» (Евр 7:18-19). В то время как все толкование Максима построено на обратной ясным словам Апостола идее поступательного («предварительного») приближения к Богу посредством исполнения естественного или писанного закона, постепенного духовного перерастания и «становления выше их» великими подвижниками древности.
Что уж тогда говорить о «новых ортодоксах», выводящих из подобных пережитков неоплатонизма у св. отцов уже откровенный ренессанс оригенизма и пелагианства, несторианства и гностицизма.
«Ветхозаветное священство, учрежденное в Израильском народе позже, во время исхода евреев из Египта, основывалось на происхождении из колена Левия, третьего сына правнука Аврама Иакова, а священство по чину Мелхиседека определяется Божьим призванием, праведностью и готовностью следовать воле Божьей. <…> В этих словах — отказ от формальных, узких рамок Ветхого Завета, открытие новой перспективы абсолютной духовной свободы и спасения во Христе, Который <…> всегда жив, всегда ходатайствует за нас перед Богом, в Его личности каждый из нас может спастись, стяжать настоящую правду и совершенный мир» (Листопад Анастасия, священник Евгений Мурзин. Встреча Авраама и Мелхиседека: какое пророчество скрыто в этом месте Библии? – Журнал «Фома»).
Если в Священном Писании «священство по чину Мелхиседека» не «определяется (личной) праведностью и готовностью следовать воле Божьей», но сами эти «праведность и готовность» предопределяются волей Божьей (поэтому о генеалогии Мелхиседека в Писании ничего не сказано, ибо в том-то и суть, что у его праведности и его священства нет никакой предыстории, или «родословия», ибо они – продукт одной только Божьей воли и благодати), то отмена «формального» Ветхого Закона в толковании новых гностиков означает торжество того, что они называют внутренним «законом сильно развитой личности», или «законом (логосом) человеческой природы», свободно следуя которому, «каждый может спастись». Что еще нечестивее, чем то, как это понимали те иудеи, к которым обращено Послание Павла. Потому что основной богословский месседж «Послания Евреям» заключается в том, чтобы развенчать мнение иудеев о том, что принадлежность к израильскому народу и следование Закону Моисея стало тем преимуществом, которое позволило им стать ближе всех к Богу. И вот новые гностики идут еще дальше веры иудеев в свое религиозное превосходство над другими народами и говорят о том, что такой доминантой являются личные заслуги духовной жизни «каждого желающего», «стяжавшего настоящую правду» и доказавшего «готовностью следовать воле Божьей» свое «достоинство» стать «царственным священством по чину Мелхиседеку».
«Образ Мелхиседека, которого апостол характеризует также как человека без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни (Евр 7:3) свидетельствует, что христианство дало возможность спасения для всех людей, независимо от происхождения, национальности и положения, открыло для человечества новое духовное пространство, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол 3:11)» (Листопад Анастасия, священник Евгений Мурзин. Встреча Авраама и Мелхиседека: какое пророчество скрыто в этом месте Библии? – Журнал «Фома»).
Т.е. уже практически теософия: слово «Христос» в конце полностью лишено апостольского содержания. Образ Мелхиседека, царя Салимского (древнейшее название Иерусалима) – это уже не прообраз Христа как «Царя Иудейского» (Ин 19:19) и Единственного в своем роде Первосвященника, но, наоборот, символ «открытости для всего человечества новых божественных горизонтов». Хлеб и вино Мелхиседека в дар Авраама как отцу иудейского народа – это уже не прообраз Тела и Крови Христа «в жертву умилостивления» (Рим 3:25) Богу за грехи этого народа («Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? Чашу спасения прииму и имя Господне призову» (Пс 115:3)), но символ «духовного бартера» («синергии») между Богом и Праведным Человеком (Аврам-то ведь тоже ответный дар десятины принес Мелхиседеку, значит, и у Развитой Личности тоже должно быть, что дать ценного взамен того, «яже воздаде» ей Бог). И все это – в том числе – благодаря «святоотеческим толкованиям» Кассиана, Златоуста и Максима, от оригенической теории заслуг которых буквально один шаг до гностицизма «богословия личности». Потому что наладить массовое воспитание не только «Мелхиседеков», но и «Христов», – это навязчивая идея Оригена, Пелагия и всех несторианствующих (религиозно-гуманистических) Феодоров, древних и новых, Мопсуестийского и Достоевского, в частности.
«Вот тут труд всеобщий (если б все были Христы)…» (Достоевский Ф. Бесы. Подготовительные материалы / Достоевский Ф. Полное собрание сочинений. Цит. изд. Т.XI. С. 192-193). «СЛОВАМИ СТАРЦА <…> Главное. <…> Мог светить, как единый безгрешный. Ибо всяк может поднять ношу его, всяк — если захочет такого счастья. Он был человеческий образ» (Достоевский Ф. Братья Карамазовы. Рукописные редакции / Достоевский Ф. Полное собрание сочинений. Цит. изд. Т.XV. С. 243-244).
Александр Буздалов
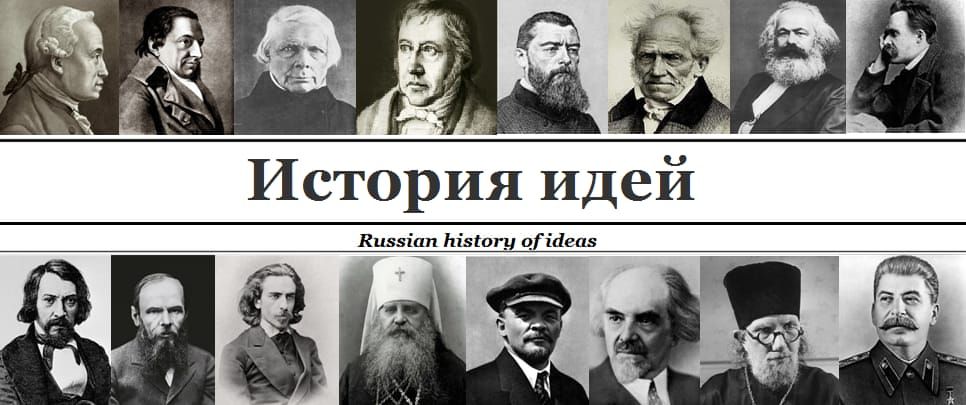





Комментарии
У этой статьи нет комментариев